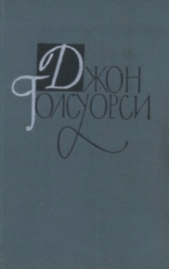Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 5

Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 5 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шелтон закурил папиросу и велел слуге подать вина.
«Пойду в суд», — решил о», но тут ему внезапно пришло в голову, что это происшествие непременно попадет в местные газеты. Репортеры, конечно, не упустят случая расписать такой пикантный эпизод: «Джентльмен против полисмена!» И Шелтон представил себе, с каким серьезным видом будет читать это отец Антонин, добропорядочный мировой судья. Во всяком случае, кто-нибудь непременно увидит его имя в газете и постарается рассказать об этом, — ну разве можно пропустить такую новость! И тут Шелтон вдруг с ужасом понял: если он хочет помочь этой женщине, ему придется подтвердить на суде, что он первый заговорил с нею.
«Я должен пойти в суд», — все снова и снова повторял он, точно стараясь убедить себя, что он не трус.
Полночи он провел без сна, тщетно пытаясь решиться на что-то.
«Но я же не заговаривал с ней, — твердил он себе. — Мне придется солгать; а ведь меня приведут к присяге!»
Он пытался убедить себя, что ложь противоречит его принципам, но в глубине души знал, что может и солгать, если только будет уверен в безнаказанности своего поступка, — более того, это казалось ему актом элементарной человечности.
«Но почему я должен страдать? — думал он. — Я ничего не сделал. Это же и неразумно, и несправедливо».
Шелтон возненавидел несчастную женщину, из-за которой он сейчас так мучился и колебался. Стоило ему принять то или иное решение, как перед ним, словно кошмар, вставало лицо полисмена с мутными глазами деспота, и он тотчас ударялся в другую крайность. Наконец он уснул, твердо решив пойти в суд, а там — будь что будет!
Проснулся он с чувством какого-то смутного беспокойства. «Ну, какую я смогу принести пользу, если даже и пойду в суд? — подумал он, лежа неподвижно и вспоминая события минувшего вечера. — Они, конечно, поверят полисмену, а я только понапрасну очерню себя…» И в душе его снова началась борьба, только уже не столь ожесточенная, как накануне. Дело было вовсе не в том, что подумают другие, и даже не в том, что ему, возможно, придется покривить душой (все это он отлично понимал), — дело было в Антонии. Он не имел права ставить себя в столь ложное положение, — это было бы некрасиво, более того — непорядочно по отношению к ней.
Шелтон отправился завтракать. В зале сидело несколько американцев; одна девушка была немного похожа на Антонию. Ночное происшествие постепенно изглаживалось из памяти Шелтона, теперь оно уже не казалось таким важным.
Два часа спустя, взглянув на часы, Шелтон обнаружил, что наступило время второго завтрака. Он не пошел в суд, не стал клятвопреступником; зато он написал письмо в местную газету, в котором заявил, что общество подвергает себя серьезной опасности, веря в непогрешимость полиции и потому наделяя ее слишком широкими полномочиями; что всякое слово этих чиновников, поставленных на страже закона и порядка, обычно принимается на веру; что полицейские всегда стоят друг за друга как из общности интересов, так и из своеобразного esprit de corps! [72] «Разве не разумно предположить, — писал Шелтон, — что среди тысяч людей, наделенных столь широкими полномочиями, могут найтись мерзавцы, которые постараются использовать эти полномочия, чтобы продвинуться по службе, играя на беззащитности обездоленных и трусости тех, кому есть что терять? Те, на ком лежит священная обязанность подбирать людей на такие должности, где человек фактически ни за что не несет ответственности, обязаны во имя свободы и гуманности выполнять этот долг в высшей степени вдумчиво и осторожно…»
Хоть все это и было правильно, тем не менее Шелтон в глубине души был недоволен собой, — его преследовала мысль, что куда лучше было бы смело и прямо совершить клятвопреступление, чем написать это письмо в газету.
Он так и не увидел свое письмо напечатанным, поскольку в нем содержались зародыши горькой правды.
После завтрака Шелтон нанял верховую лошадь и поехал за город. Напряженное состояние, в котором он находился все это время, прошло, и он чувствовал себя, как человек, выздоравливающий после тяжелой болезни; при этом он тщательно воздерживался от чтения местных газет. Но что-то в нем возмущалось недолговечностью его благородного порыва.
ГЛАВА ХХ ХОЛМ-ОКС
Холм-Окс стоял не очень далеко от дороги; это был старинный помещичий дом, при постройке которого думали не о красоте, а о том, чтобы он, как заботливая мать, был возможно ближе к амбарам, конюшням и окруженным высокими стенами садам; дом был красный, длинный, с плоской крышей и окнами в стиле эпохи королевы Анны; на ромбовидных стеклах, прочерченных белыми переплетами, играло солнце.
Перед домом, окаймляя продолговатую зеленую лужайку между дорогой и посыпанной гравием аллеей, росли вязы — самые почтенные на свете деревья, в которых гнездились грачи — самая консервативная из всех существующих на свете птиц. Огромная осина — чувствительное творение природы — тряслась и дрожала немного поодаль, как бы извиняясь за свое появление в столь невозмутимо спокойном обществе. Порой ее посещала кукушка, которая прилетала раз в год, чтобы поиздеваться над прочным укладом! жизни, но она редко задерживалась надолго, так как мальчишки, выведенные из себя ее непостоянством, принимались швырять в нее камнями.
Деревенька, приютившаяся в лощине, еще не избавилась от страха перед автомобилями. Эта группа однообразных коттеджей с остроконечными крышами была постоянно овеяна запахом сена, навоза и роз, а сейчас к этим запахам, простого, смиренного существования примешивался аромат цветущей липы. За лощиной возвышалась церковь с квадратной колокольней, хранившая в своих серых стенах летопись жизни деревенской паствы — перечень рождений, смертей и свадеб, даже рождений незаконных детей, даже смертей самоубийц и, казалось, протянувшая над головами простых смертных невидимую руку господскому дому. Благопристойные и чинные, эти две крыши привлекали к себе взоры и, словно сговорившись затмить все вокруг, заслоняли собой более скромные постройки.
Июльское солнце светило прямо в лицо Шелтону всю дорогу от Оксфорда до Холм-Окса, и все же он был очень бледен, когда, пройдя по аллее, подошел к дому и позвонил.
— Миссис Деннант дома, Добсон? — спросил он степенного дворецкого в ливрее — старого слугу, считавшего, что до полудня дворецкий непременно должен носить цветные штаны, чтобы его не спутали с лакеем.
— Миссис Деннант, — отвечал сей почтенный муж, поднимая голову, и на его круглом безбородом лице появилось любезно-виноватое выражение, какое бывает у слуг, долго проживших в хорошей семье, — миссис Деннант ушла в деревню, сэр, но мисс Антония в угловой гостиной.
Шелтон пересек низкий холл, отделанный деревянными панелями, с окном в глубине, сквозь которое виднелась мирная зеленая лужайка. Поднявшись по шести широким низким ступеням, он остановился. Из-за двери до него доносились приглушенные звуки гамм; Шелтон стоял, весь во власти охватившего его волнения, сердце его стучало так громко, что в ушах шумело, и он почти не слышал рояля. С застывшей на лице улыбкой он тихо повернул ручку двери.
Антония сидела за роялем; голова ее слегка покачивалась в такт движению пальцев, а изящные ступни мерно двигались, нажимая на педали. Она, как видно, только что играла в теннис: на стуле валялись небрежно брошенные ракетка и берет. На ней была синяя юбка и кремовая блузка без воротника. Лицо ее раскраснелось, брови были чуть нахмурены; пальцы быстро бегали по клавишам, и она наклонялась то в одну, то в другую сторону, отчего шелк рукавов то натягивался, то повисал свободными складками.
Шелтон стоял и смотрел, не отрывая глаз, на ее губы, беззвучно отсчитывающие такт, на пышный ореол белокурых волос, на темные брови, сбегающие к переносице, на нежные щеки с еле заметной синевой под глазами, голубыми и прозрачными, как лед, на чуть заостренный подбородок без ямочки на это далекое и такое милое, чуть тронутое загаром и холодно-безмятежное лицо.