Тайна семьи Фронтенак (др. перевод)

Тайна семьи Фронтенак (др. перевод) читать книгу онлайн
Самый мягкий, самый лиричный роман великого Мориака. Роман, в котором литературоведы десятилетиями ищут и находят автобиографические мотивы.
История очень необычной для Франции начала XX века семьи. В ней торжествуют принципы взаимной любви, понимания и уважения.
Именно из нее выходит талантливый молодой писатель, не имеющий сомнений в отношении своего призвания. Жизнь не всегда будет к нему благосклонна, но семейные ценности, усвоенные в детстве, помогут ему справиться с трудностями, разочарованиями и поражениями взрослой жизни!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В конце аллеи у большого дуба его поджидал Жан-Луи. В руках он держал тетрадку. Ив в нерешительности остановился. Злиться ли? Со стороны Уртина в последний раз прокуковала кукушка. Они неподвижно стояли в паре шагов друг от друга. Жан-Луи первый шагнул вперед и спросил:
— Ты не очень рассердился?
Ив никогда не мог устоять перед ласковым словом, даже перед голосом чуть более нежным, чем обычно. Жан-Луи с ним был постоянно груб, часто ворчал: «Пинка б тебе хорошего!», а главное, от чего Ив приходил в ужас: «Вот в армию пойдешь…» А сегодня он только твердил:
— Не очень рассердился, да?
Малыш ничего не мог ответить, только обнял брата за шею; тот снял его руку, но осторожно.
— А знаешь, — сказал он, — это очень здорово.
Малыш поднял голову и спросил:
— Что здорово?
— То, что ты написал… лучше, чем здорово, — с жаром ответил брат.
Они шли рядом по светлой еще аллее меж черных сосен.
— Издеваешься, Жан-Луи? Разыграть хочешь, да?
Второго удара колокола они не слышали. Госпожа Фронтенак вышла на крыльцо и позвала:
— Мальчики!
— Вот что, Ив, сегодня после ужина пошли вдвоем гулять в парк, я с тобой поговорю. На вот, тетрадку возьми.
За столом Жозе (мать всегда говорила, что он не умеет вести себя за столом, слишком жадно ест и садится, не вымыв рук) рассказывал, как ходил сегодня с Бюртом по ландам: управляющий наставлял мальчика, чтобы тот знал границы своего имения. Жозе ни о чем другом и не помышлял, как только «сесть на земле» для своего семейства, но теперь ему казалось, что он ни за что не научится находить межевые камни. Бюрт считал сосны в посадке, раздвигал траву, копал — и вдруг являлся вросший в землю камень, много веков назад поставленный там прежними пастухами. Эти скрытые, но неисчезающие камни были стражами права и, очевидно, внушали Жозе некое религиозное чувство, пробившееся из недр его породы. Ив даже есть не мог, в упор глядел на Жана-Луи и тоже думал об этих таинственных межах: в его сердце они оживали, внедрялись в тот потаенный мир, который его поэзия извлекала из тьмы.
Выйти они хотели незаметно, но мать перехватила их:
— С ручья сыростью тянет; вы пелеринки хотя бы накинули? И ни в коем случае не стойте на месте.
Луна еще не вставала. От ледяного ручья и с лугов дышало зимой. Сперва мальчики озирались, не находя аллею, но затем их глаза привыкли к темноте. В безупречно ровной струе неба над соснами звезды казались ближе: они спускались и плавали меж берегов, означенных черными вершинами. Ив шел, освободившись сам не зная от чего — как будто старший брат вытащил у него из души огромный камень. Жан-Луи говорил с ним отрывистыми фразами, смущенно. «Я, — говорил он, — боюсь, как бы ты не начал слишком умничать. Боюсь замутить источник…» Но Ив отвечал: «Не бойся; это от меня не зависит; это как поток лавы, и сперва я сам не мог с этим совладать». Потом, когда лава застывала, Ив начинал работать, без колебаний выковыривал из нее эпитеты и прочий застрявший там мелкий мусор. Уверенность мальчика в себе покорила Жан-Луи. Ему самому теперь было семнадцать — а сколько же Иву? Только-только пятнадцатый пошел… Переживет ли его гениальность детство?
— Послушай, Жан-Луи, а что тебе больше всего понравилось?
Писательский вопрос: вот и родился писатель…
— Разное… Очень понравилось, как сосны освобождают тебя от страданья, кровью вместо тебя исходят, и как тебе ночью кажется, что они ослабели и плачут, но не от них этот плач исходит: то дуновенье моря в стиснутых кронах… О! А особенно это место…
— Смотри-ка, луна! — перебил Ив.
Они не знали, что мартовским вечером 67-го или 68-го года Мишель и Ксавье Фронтенаки шли по той же самой аллее. Ксавье тогда тоже сказал: «Луна!», а Мишель прочитал стих: «Встает — и стелется ее дремотный луч…» [4] И в такой же точно тишине текла тогда Юра. Через тридцать с лишним лет вода в ней была другая, но так же точно журчала, а под этими соснами другие братья так же точно любили друг друга.
— Не показать ли их кому-нибудь? — спросил Жан-Луи. — Я подумал, может быть, аббату Пакийону (то был учитель риторики, которого он почитал и любил). Но даже он, боюсь, не поймет: скажет, что это не стихи, а это ведь и вправду не стихи… Я никогда ничего подобного не читал. Они тебя смутят, ты начнешь что-то править… Словом, я подумаю.
Ив целиком предался своему доверию к брату. Мнения Жан-Луи было ему достаточно: он совершенно полагался на него. И вдруг ему стало стыдно, что они говорят только про его стихи:
— А ты как, Жан-Луи? Не станешь торговать досками? Не дашь это над собой сотворить?
— Я все решил: Нормаль… степень по философии… непременно по философии… Кто там в аллее — не мама?
Ей стало страшно, что Ив замерзнет; она принесла ему теплое пальто. Мальчики взяли ее под руки.
— Тяжела я стала на ходу, — сказала она. — А ты в самом деле не кашляешь? Жан-Луи, он при тебе не кашлял?
Их шаги на крыльце разбудили девочек в спальне у террасы. Лампа в бильярдной ударила им в глаза; они заморгали глазами.
Ив, раздеваясь, глядел на луну над неподвижными сосредоточенными соснами. Не было соловья, которого отец Ива слушал в его годы, свесившись из окна над садом в Преньяке. Но здесь, быть может, у совы на сухом суку голос был еще звонче.
V
На другой день Ив не удивился, когда старший брат опять перешел с ним на обычный довольно неприветливый тон, как будто бы никакого секрета между ними не было. Необычной ему показалась та сцена, что была накануне: ведь братьям довольно того, что их, как два побега от одного пня, соединяет общий корень; у них совсем нет привычки объясняться между собой: это самый безмолвный род любви.
В последний день каникул Жан-Луи заставил Ива сесть на Бурю, и лошадь, как всегда, почуяв на своих боках эти робкие ноги, сразу понеслась в галоп. Ив без всякого стыда переполз на круп. Жан-Луи побежал наперерез через сосны и остановился посреди аллеи, скрестив руки. Лошадь разом встала; Ив описал параболу и приземлился задом на кучу песка, а брат его заявил: «Так всегда тюфяком и останешься».
Это все мальчика не задевало. Только от одного он сильно огорчался, хотя сам себе в этом не признавался: что ни день, Жан-Луи ходил в Леожа к кузенам Казавьей. И в семействе, и в деревне все знали: для Жан-Луи все песчаные дороги ведут в Леожа. Некогда тяжбы поссорили Фронтенаков с семьей Казавьей. После смерти госпожи Казавьей они помирились, но как говорила Бланш, «с ними у нас отношения всегда были прохладные, прохладные»… Впрочем, в первый четверг каждого месяца она вывозила на прогулку Мадлен Казавьей, которая в школе Сердца Христова считалась уже большой. Даниэль и Мари пока что были в младших классах.
Когда Бюрт сказал: «Господин Жан-Луи ходит к ним», госпожу Фронтенак охватили и гордость, и беспокойство. Противоречивые чувства тревожили ее: Бланш боялась, что сын так рано свяжет себя, но хорошо было, что Мадлен в приданое получит кое-что из материнского наследства, а главное — мать надеялась, что ее полный сил мальчик избежит беды благодаря чистому сильному чувству.
Ив же на другой день после той незабываемой прогулки очень огорчился, когда по некоторым словам брата понял, что тот пришел из Леожа: он-то думал, что его тетрадка и то, что Жан-Луи нашел в ней, отвлекут его от прежнего счастья; он-то думал, теперь брату все остальное покажется пошлым… Ив очень просто и ясно представлял себе эту любовь: он воображал томные взгляды, торопливые поцелуи, долгие пожатья рук — словом, романс, а он презирал романсы. Ведь теперь Жан-Луи постиг его тайну, вошел в этот чудесный мир: что же ему надобно в другом?
Девушки, конечно, для маленького Ива уже существовали. На воскресной мессе в Буриде он любовался хористками с длинными шеями, белизну которых оттеняли черные ленты; они стояли вокруг фисгармонии, как на краю бассейна, и воздымали груди, будто наполненные просом и кукурузой. Быстрее билось его сердце, когда малышка Дюбюк, дочь крупного землевладельца, проезжала мимо верхом на молодом конике и черные локоны трепетали на ее худеньких плечиках. Рядом с этой сильфидой до чего грузной казалась Мадлен Казавьей! Огромный бант торчал цветком на ее уложенных шиньоном волосах — Ив сравнивал их с дверным молотком. Она почти всегда носила очень короткое болеро, позволявшее разглядеть располневшую талию, и юбку, очень тесную на сильных бедрах, а книзу расходившуюся. Когда Мадлен Казавьей клала ногу на ногу, видно было, что у нее нет щиколоток. Что нашел Жан-Луи в этой девушке — толстушке с благодушным лицом, на котором никогда не шевелился ни один мускул?

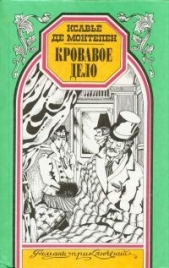

![Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















