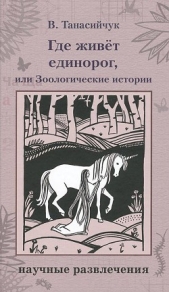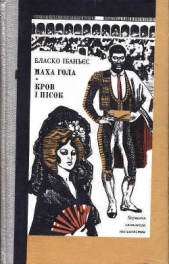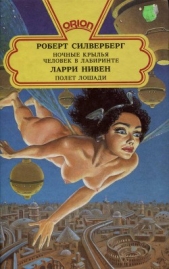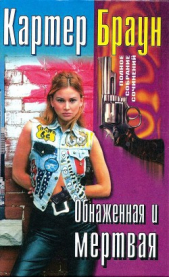Обнаженная Маха

Обнаженная Маха читать книгу онлайн
Пронзительный, чувственный шедевр Бласко Ибаньеса более ста лет был под запретом для русского читателя! Страсть и любовь, выплеснутые автором на страницы книги просто завораживают и не отпускают читателя до последней строки…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Реновалес возвращался домой, охваченный каким-то странным нетерпением; даже взял извозчика, чтобы приехать как можно скорее. Он волновался, ему казалось, что дома его кто-то ждет. Словно в его жилище, похожем на дворец, еще холодном и пустом, теперь поселился неуловимый и невидимый дух, любимая душа, душистыми ароматами растекшаяся по всему дому.
Когда заспанный слуга открыл дверь, художник сразу бросил взгляд на акварель и радостно улыбнулся. Ему хотелось сказать «добрый вечер» этой головке, что ласково смотрела на него.
Так же улыбаясь, здоровался он мысленно со всеми Хосефинами, которые выходили ему навстречу из темноты, когда он включал свет в залах и коридорах. Эти лица, на которые утром он смотрел с удивлением и страхом, уже не пугали художника. Она его видит, знает, о чем он думает, и, конечно, прощает его. Хосефина всегда была так добра!..
На мгновение он стал, ощутив сомнение. Ему вдруг захотелось пойти в студию и засветить все люстры. Он увидит Хосефину во весь рост, во всей ее красе; поговорит с нею, попросит у нее прощения в глубокой, как в храме, тишине... Но маэстро овладел собой. Что за чушь приходят ему в голову? Или он совсем помешался?.. Провел ладонью по лбу, словно хотел стереть свои чудаческие прихоти. Это, наверное, asti так задурманило ему голову. Надо идти спать!..
Улегшись на кровати дочери и выключив свет, он почувствовал себя плохо, никак не мог уснуть, ворочался с боку на бок. Его охватило неистовое желание бежать из этой комнаты и вернуться в супружескую спальню, будто только там он мог найти покой и сон. О, их венецианская кровать, роскошное ложе белокурой догаресы, которое знает всю историю жизни Хосефины! На этом ложе стонала она от любви, на нем они вместе проспали множество ночей, на нем он поверял ей шепотом свои мечты о славе и богатстве, на нем родилась их дочь!..
С отчаянной решимостью, которую вкладывал во все свои поступки, маэстро снова оделся и пошел в спальню, крадучись и стараясь ступать как можно тише, словно боялся разбудить слугу, спящего неподалеку.
Осторожно, как вор, повернул ключ в замке и на цыпочках направился к кровати. Из старинного светильника, висевшего под потолком как раз посередине комнаты, лился неяркий розовый свет. Он аккуратно положил на кровать матрасы. Под рукой не было ни простыней, ни подушек, ни одеяла, и в давно необитаемом помещении стоял холод. И все же какая счастливая ночь ждет его! Как хорошо он здесь будет спать! Под голову можно положить и твердые диванные подушки. Он накрылся пальто и лег одетым. Погасил свет, чтобы ничего не видеть, чтобы помечтать, населить темноту сладкими картинами воображения.
На этих матрасах спала Хосефина, здесь лежало ее хрупкое тело. Он видел жену не такой, какой она была незадолго до смерти — худая, больная, изможденная недугом. Воображение художника прогнало этот печальный образ и заменило его прекрасной иллюзией. Он любовался совсем другой Хосефиной — хорошенькой юной женщиной, и то не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой он ее видел глазами влюбленного и какой рисовал.
Его память переносилась через долгий промежуток времени, темный и бурный, как взволнованное море; от сегодняшней тоски он возвращался прямо в счастливую молодость. Реновалес не хотел вспоминать о тяжелых годах, когда они с женой, мрачные и раздраженные, не умеющие следовать дальше одной тропой, отчаянно скандалили... Жизненные неприятности растаяли, как дым. Думал он только о временах, когда она любила его, вспоминал ее улыбку, доброту, вспоминал, какая она была ласковая и послушная. Какая глубокая нежность объединяла весну их жизни, когда они лежали, обнявшись, на этой кровати, где теперь он съежился один — осиротевший и печальный!..
Художник дрожал от холода, ибо пальто, которым он укрылся, не могло заменить одеяла. Острые ощущения, идущие извне, будили воспоминания, и обломки прошлого всплывали из глубины памяти. Холод напомнил ему о слякотных ночах Венеции, когда над узенькими переулками и пустынными каналами часами лилась вода с неба и в глубокой торжественной тишине города, не знавшего ни цоканья конских копыт, ни грохота колес, ляпали и ляпали по мраморной лестнице капли дождя... А они с Хосефиной лежали на этой кровати под теплым одеялом, в окружении той же мебели, что и теперь угадывались в темноте...
Сквозь стекла большого окна с резной рамой проникал тусклый свет фонаря, висевшего над ближним канальцем. По потолку бежала светящаяся полоса, а на ней дрожали блики воды, словно одна за другой сновали черные поперечные нити. Крепко обнявшись, они смотрели на потолок и любовались этой игрой света и воды. Представляли, как холодно и сыро на улице, тянулись друг к другу и радовались взаимному теплому, что они вместе, — а тишина была такая глубокая, будто вдруг наступил конец света и только их спальня осталась оазисом среди холода и темноты.
Иногда тишину прорезал жуткий крик: «А-о-о-о!». Так предостерегающе кричал гондольер, перед тем как свернуть в боковой канал. Мерцала на потолке светящаяся полоса, по ней скользила тень гондолы, похожей на миниатюрную игрушку, а на корме, погружая в воду весло, сгибалась и разгибалась фигура человека величиной с муху. И двое влюбленных, думая о тех, кто плывет сейчас под дождем и пронизывающим ветром, чувствовали еще более глубокое, еще более сладострастное удовлетворение, горячо льнули друг к другу под мягкой ласковостью одеяла и сливались устами, чтобы нарушить покой этого уютного гнездышка беззаботными развлечениями молодости и любви...
Реновалесу уже не было холодно. Он беспокойно вертелся на матрасах. Металлические закрайки диванной подушки вонзались ему в лицо, а он протягивал в темноту руки, и в глубокой тишине раздавался его жалобный беспомощный стон: это был плач ребенка, требующего невозможного, требующего достать луну с неба.
— Хосефина! О Хосефина!
III
Однажды утром маэстро написал Котонеру и попросил его немедленно прийти. Старый друг появился сразу, напуганный срочностью вызова.
— Ничего не случилось, — успокоил его Реновалес. — Я тебя позвал, чтобы ты показал мне, где похоронена Хосефина. Хочу ее навестить.
Эта прихоть вызревала в нем в течение нескольких ночей, в те бесконечные часы, когда он не мог заснуть и лежал в темноте с открытыми глазами.
Вот уже больше недели, как он переселился в большую спальню. Прислуга была поражена, увидев, как он копается в постельном белье и выбирает для себя наиболее изношенные простыни. Их вышивка будила в нем давние воспоминания, и хотя эти простыни не распространяли таких волнующих ароматов, как одежда в гардеробной, но все рано они много раз касались любимого тела и сохранили в себе что-то от него...
Реновалес сказал Котонеру о своем желании спокойно и решительно, но счел нужным как-то оправдаться. Позор, конечно, что он до сих пор не знает, где похоронена Хосефина и ни разу ее не навестил. Смерть любимой жены так его ошеломила, что он забыл обо всем остальном... А потом отправился в путешествие...
— Ты руководил всем, Пепе; ты заботился о похоронах. Покажи мне ее могилу. Веди к ней.
Прежде Реновалес был безразличен к могиле покойной. Он вспомнил о своей наигранной грусти в день похорон, о том, как сидел в углу мастерской, уткнувшись лицом в ладони. Близкие друзья в траурном одеянии подходили к нему с печальными лицами, брали его руку и с чувством пожимали ее: «Держись, Мариано! Крепись, маэстро». А на улице, перед домом, стоял непрерывный стук копыт; за черными решетками — толпа; двойная цепочка экипажей терялась вдали; газетчики ходят от группы к группе, записывая имена.
Весь Мадрид был на похоронах... А потом ее увезли прочь — медленно двигался катафалк, колыхались на ветру пышные султаны на конских гривах, шли служащие похоронного бюро в белых париках и с золотыми палками в руках — и он больше не вспомнил о ней. Ему и в голову не пришло посмотреть, где же тот холмик на кладбище, под которым она навеки от него спряталась. Ох, злодей! Ох, ничтожество! Так оскорбить память жены — даже не поинтересоваться, где ее похоронили!..