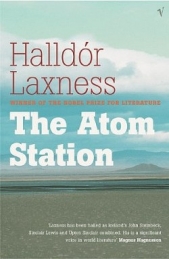Самостоятельные люди. Исландский колокол

Самостоятельные люди. Исландский колокол читать книгу онлайн
Лакснесс Халлдор (1902–1998), исландский романист. В 1955 Лакснессу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Прожив около трех лет в США (1927–1929), Лакснесс с левых позиций обратился к проблемам своих соотечественников. Этот новый подход ярко обнаружился среди прочих в романе «Самостоятельные люди» (1934–35). В исторической трилогии «Исландский колокол» (1943), «Златокудрая дева» (1944), «Пожар в Копенгагене» (1946) Лакснесс восславил стойкость исландцев, их гордость и любовь к знаниям, которые помогли им выстоять в многовековых тяжких испытаниях.
Перевод с исландского А. Эмзиной, Н. Крымовой.
Вступительная статья А. Погодина.
Примечания Л. Горлиной.
Иллюстрации О. Верейского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фрида верила в какого-то Иисуспетруса и взывала к нему в своих молитвах. В Летней обители, где людям почти не о чем было говорить друг с другом, старая Фрида казалась каким-то чужеродным телом. У Бьяртура была привычка, находясь во дворе, разговаривать с женой через дверь, обращаясь как бы в воздух, неизвестно к кому. Оставалось невыясненным, слышала ли его Финна, находясь в доме. Это были замечания о погоде, о работе по дому или хозяйственные распоряжения. Все это говорилось в безличной форме и ответа не требовало. Старшие мальчики украдкой толкали друг друга за спиной отца, но если Бьяртур это видел, им доставалось, он не скупился на затрещины и тумаки. Сидеть без дела детям не полагалось.
— Хельги, как тебе не стыдно, оставь мальчика в покое! — Виноватым Бьяртур всегда считал Хельги, а «мальчиком» называл Гвендура.
Бабушка сидела и, покачиваясь, что-то бормотала. Ауста Соуллилья смотрела вопрошающими глазами, глазами взрослой девушки, словно сквозь стену или сквозь небо. Она ни с кем не делилась своими мыслями, подобно Бьяртуру, который втихомолку сочинял стихи и потом, ко всеобщему удивлению, читал их своим гостям.
И вдруг этот самостоятельный хутор, где все держались особняком и каждый таил свои мысли про себя, захлестнуло неистовым потоком слов. Болтая, пришла на хутор со своим узлом на спине старая Фрида; она без передышки проболтала весь день, пока не улеглась спать с бабушкой и Нонни. Эта болтовня лилась безостановочно, как в ненастье льется из-под стрехи дождевая вода. Сгребая сено на лужайке, она разговаривала сама с собой. Мальчики, подкравшись к ней, прислушивались. Старуха болтала о делах прихода, о ведении хозяйства на хуторе, судачила о том, кто с кем изменяет мужу или жене, кто истинный отец незаконнорожденного ребенка; ругала богатых крестьян за то, что они морят голодом овец, почтенных жителей поселка честила ворами, шельмовала старосту, пастора, даже судью, поносила все начальство и многое замечала там, где другие видели только вязкое болото. Всегда верх был ее, людей она охаивала за глаза. Речь свою она обычно уснащала проклятиями и больше всего возмущалась позорным притеснением людей, «тиранством». В своих разговорах, во сне и наяву, она постоянно возвращалась к этой теме, говорила ли сама с собой, с людьми, случайно проходившими по полю, с собакой или овцами или с невинными певуньями-пташками. Она жила в состоянии вечного и безнадежного протеста против «тиранства», и поэтому в ее взгляде было что-то злое, дерзкое, вызывающее, как у тех страшных животных неопределенной породы, которых подчас видишь во сне: обличье их трудно разглядеть, но близость их ощутима. Бабушка поворачивалась к Фриде сгорбленной спиной и еще глубже уходила в себя, точно погружаясь в вековечное молчание пустоши. Финна время от времени мягко вставляла лишенные содержания односложные слова. Хельги слушал прищурившись, с коварной ухмылкой и иногда вечером прятал юбку старухи или украдкой бросал камешек ей в кашу. Бьяртур, которому основательно от нее попадало, никогда не отвечал «проклятой старой ведьме» и проходил мимо нее с презрительным видом, а Гвендур подражал ему в этом, как и во всем другом. Но маленький Нонни, широко открыв глаза, прислушивался к болтовне старухи и пытался связать ее слова воедино. Он часто становился поблизости от нее, чтобы лучше видеть, как она шевелила языком и губами, и восхищался количеством и силой выбрасываемых ею слов. Она говорила с ним, как с взрослым мужчиной, не выбирая ни выражений, ни темы.
«Однажды зимой, в сильную метель, королева сидела у себя во дворце у окна и вышивала…» В ночь перед уборкой сена Ауста Соуллилья сидела на камне, читая книгу. Так, сидя у порога, она читала за полночь, а кончив, начала сначала. Когда она прочла ее второй раз, уже всходило солнце. И она долго смотрела на юг, через пустошь, еще раз мысленно переживая все, о чем говорилось в сказке. Вновь и вновь она шла по следам Белоснежки через семь гор, ее спасал повар, она нашла приют в доме гномов. На нее обрушивались всевозможные беды, но под конец являлся прекрасный принц и увозил ее в свое королевство в стеклянном гробу. Ауста так горячо сочувствовала маленькой Белоснежке, ее горестям и радостям, что на глаза у нее навертывались слезы, грудь вздымалась, — но не от горького, тягостного чувства, а от сладкого волнения, какое бывает, когда хочется умереть за хорошее и прекрасное. Так близка и понятна была Аусте сказка, что сквозь слезы она видела принца, как живого, видела и себя в стеклянном гробу. Слуги короля несли ее, они споткнулись, и кусочек яблока выскочил у нее из горла. Она поднялась, взглянула на принца, и они поздоровались друг с другом. Ей показалось, что они знакомы давно-давно, испокон веков; и после всех страданий, выпавших на долю Белоснежки, она стала королевой. Впервые Ауста была вся захвачена волшебной силой поэзии, показывающей человеческую судьбу так правдиво, с таким сочувствием и великой любовью к добру, что мы сами делаемся лучше и начинаем яснее понимать жизнь: мы верим, мы надеемся, что добро победит в жизни каждого человека.
Бьяртур, наняв работницу, не изменил своим привычкам крестьянина-одиночки и по-прежнему много работал; он, как всегда, вставал среди ночи, а следом за ним поднимались его взрослые помощники Финна и Фрида. Они работали до утра натощак. Детям разрешалось спать, пока не сварят кофе. Старуха возилась у печки. Будить внуков было нелегким делом и летом и зимой; что это за дети, она таких и не видывала; ее причитаний они не слышали, она пыталась вытащить их из постели силой, но это было то же самое, что тянуть резинку: как только ее слабые руки переставали тормошить детей, они засыпали еще крепче. Их веки были точно свинцом налиты. Наконец они вылезали из постели и начинали одеваться, но глаза у них вновь смыкались, дети словно теряли равновесие и опять сваливались на подушку. Частенько старуха шлепала их по лицу мокрой тряпкой, чтобы они наконец подняли эти непослушные веки. Каждое утро бабушка твердила, что из них никогда ничего путного не выйдет.
Когда дети наконец вставали, на них порой нападала такая тошнота, что они не могли ни пить, ни есть. Только через час после начала работы у них появлялся аппетит, всякие лакомства начинали дразнить их воображение. Дети плелись на болото с котелком кофе для взрослых, они шли неуверенной походкой, как овцы, больные вертячкой. Ноги плохо слушались их, в коленях покалывало, все тело жаждало отдыха. Как чудесно было бы упасть на землю между двумя кочками, ведь падать никому не запрещено. Не беда, что ты вымокнешь, что в следующее мгновение надо будет сделать усилие и подняться, — зато побудешь минуту в объятиях блаженного сна. Иногда детям становилось так плохо, что холодный пот выступал у них на лбу; иногда они, согнувшись, останавливались на болоте: их рвало, а пот застывал, как лед. Выпитый кофе выливался обратно, но уже не сладким, а горьким, и после этого рот наполнялся какой-то странной жидкостью. У детей часто по утрам болели зубы, иногда даже в течение всего дня; во рту и в носу они ощущали невероятно дурной вкус и запах.
Старшим мальчикам дали по косе, а Нонни помогал женщинам сгребать траву, чтобы они не отставали от косцов. Дети работали по шестнадцать часов в день. Два перерыва для еды и один для кофе; после обеда короткий сон под открытым небом. В погожие дни, под сияющим солнцем, отчаянная, непосильная тяжесть труда забывалась и мысли летели вперед, находя отраду в мечтах о будущей, более свободной жизни, в другом счастливом краю. Эти извечные мечты о счастье облагораживали раба еще на самой заре человечества. В такие ясные дни кажется, что и солнце на твоей стороне. Но этим летом, к сожалению, было очень мало хороших дней, когда дети, равномерно взмахивая косами, уносились в страну грез. Лето было дождливое. А когда промокнешь до нитки на болотистом лугу, не так-то легко забыть действительность и уйти в мечты. Детям нечего было надеть для защиты от дождя, как не во что было нарядиться по праздникам. Дырявая фуфайка, рубашка из холстины или реденького ситца — вот и вся их одежонка. В эти тяжелые времена не стоит расходовать шерсть на что-либо, кроме самого необходимого. У Бьяртура была кожаная куртка, которую он надевал в торжественных случаях, например, на собрания овцеводов или при поездках в город осенью. Во всем доме только эта вещь и заслуживала название одежды. Бьяртур никогда не надевал эту куртку во время работы, она была лишь символом его самостоятельности. Но иногда, если дождь лил с самого утра без всякой надежды на просвет, случалось, что Бьяртур протягивал куртку дочери. Ауста принимала ее и поглядывала на отца, не поднимая головы; вот и все. Зато старая Фрида, хоть и состояла на иждивении прихода, владела толстой грубошерстной курткой, была у нее и парусиновая юбка. В это лето дождь без конца поливал трех маленьких беззащитных работников и женщину, пролежавшую зимой четыре месяца в постели. Каждое волокно их лохмотьев насквозь промокало, платки и шапки у каждого превращались в мокрый бесформенный ком, волосы тоже, вода ручьями стекала по шее и лицу, окрашиваясь в цвет их головных уборов, и струилась по спине и груди. Так они часами стояли в лужах топкой грязи, в тине, — казалось, что потоки воды, извергавшиеся из туч, неиссякаемы. Мокрая трава уныло хлюпала под косами, которые становились все тяжелее и тяжелее; время не двигалось, будто и оно прилипало к телу, как промокшая рубаха.