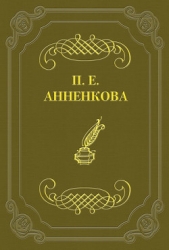Плат Святой Вероники
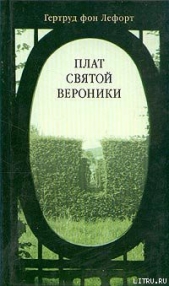
Плат Святой Вероники читать книгу онлайн
Роман «Плат святой Вероники» рассказывает о том, как юная героиня (ей около пятнадцати лет) самостоятельно, своим собственным путем приходит к Богу. Еще девочкой Веронику после смерти матери отправляют из Германии в Рим, где живут ее бабушка и тетя Эдельгарт. Некогда отец Вероники был влюблен в Эдель, которая земной любви предпочла любовь Божественную, после чего он женился на ее сестре. Отец настаивает на том, чтобы девочка воспитывалась вне религиозного мира своей тетки, так как сам уже давно утратил связь с Церковью.
Вероника оказывается словно меж двух миров, где «бабушка сама себя называла язычницей, тетушка Эдель любила, чтобы ее считали католичкой, а маленькая Жаннет и в самом деле была таковою». Центром этого домашнего царства является бабушка Вероники – женщина удивительная, пережившая трагическую любовь в самом расцвете своего жизненного пути. Прекрасная внешне и внутренне, она необычайно образованна, умна, обладает сильным характером. Вечный город – предмет ее страстного поклонения, и путешествия по Риму занимают немалое место в повествовании. Рим в этом романе, сосуществуя в языческом плане как средоточие красоты и свободы духа и в христианском как священное сердце мира, становится в итоге высоким символом победы света над мраком, философским воплощением Вечной любви.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Незадолго до моего крещения отец Анжело вновь выразил желание, чтобы я хотя бы сам этот священный день провела в монастыре, в полном спокойствии. Тогда я еще не знала, что он при этом думал не столько обо мне, сколько о тетушке, так как имел совершенно определенные опасения, связанные с тем обстоятельством, что она однажды отринула Святое причастие. Он, который всегда был за полную откровенность между мной и тетушкой, решительно попросил меня не называть ей дня, когда я приму Святые Дары.
Мне же, напротив, хотелось провести этот день с тетушкой, ставшей первым орудием Божьим в отношении меня, но я подчинилась воле своего наставника и учителя, который, как вскоре выяснилось, был совершенно прав: он оградил мои первые часы слияния с любовью Спасителя от мученичества, предстоявшего, впрочем, не мне, бедняжке, как я полагала, а Ему, Который подарил мне Себя…
Я не стану раскрывать тайн, связавших мою душу с Богом, но, подобно тому как сама Благодать нисходит заключенной в оболочку таинства, я заключу все произошедшее со мной в оболочку молчания – глубочайший язык любви, сокровеннейший язык блаженства и благодарности…
Жаннет в этот день приехала из Витербо, а приветливые монашки до самого вечера радовались вместе со мной и окружали меня лаской. Потом я сняла и оставила у них свое белое платье и покрывало. Я оставила и свою свечу с просьбой зажечь ее ночью на алтаре, во время Вечной молитвы [61]. После этого я поехала домой, к той, для кого она горела. Вот тогда и произошла та ужасная сцена, убедившая меня в прозорливости отца Анжело. Тетушка Эдель, как мне сообщила Джульетта, весь день была очень неспокойна, однако причиной тому не могло быть мое отсутствие, так как Жаннет сама попросила тетушку отпустить меня в город, и та согласилась: в то время она еще вела себя с Жаннет сдержанно и любезно. Но когда я вошла к ней в комнату (о, я думаю, счастье было написано у меня на лице!), она так испугалась, что закрыла лицо руками. Я, совершенно потрясенная, вышла и отправилась к себе. Через некоторое время она последовала за мной и принялась осыпать меня упреками, причин которых я отчасти вообще не понимала; временами мне казалось, будто она просто выдумывает их на ходу. Моя радость была так велика, что я не находила в себе силы отвечать на них, однако это была не моя заслуга, а Милость Того, Кто подарил мне Себя в Своей любви. Но именно мое молчание и пробудило в ней настоящий гнев. Я думаю, что, если бы я ответила ей резко, она бы успокоилась, поняв, что Того, Чья близость для нее была невыносима, рядом нет. В конце она совершенно неожиданно сказала, что ей хорошо известен источник бабушкиной печали в ее последние дни и что боль, которую я причинила умирающей, и стала причиной того, что она отослала меня прочь в свои последние минуты. Слова эти были так ужасны, что я заплакала. Увидев мои слезы, она сразу же успокоилась и оставила меня одну.
Не успела она выйти из комнаты, как слезы начали жечь меня, словно капли огня. Мне было нестерпимо больно, потому что она сумела огорчить меня в этот самый священный и радостный день моей жизни. И вдруг я почувствовала мягкое, сладостное утешение. Я словно услышала тихий голос во мне самой, говоривший: «Ты плачешь вместо Меня». Совершенно новое, удивительное счастье охватило меня мгновенным ознобом: во мне родилось ощущение, будто я приняла своим сердцем удар, предназначавшийся Божественной любви, будто я была огорчена вместо нее и за нее…
С того дня состояние тетушки стало ухудшаться. Доктор-психиатр, мнением которого она так дорожила, совершенно внезапно утратил свою власть над ней; похоже, она вдруг стала испытывать к нему отвращение, так что вскоре уже совсем не желала его видеть. Она даже отдала распоряжение не принимать его, если он придет. При этом самочувствие ее ничуть не улучшилось, а скорее еще заметнее ухудшилось. Теперь создалось впечатление, что она и в самом деле больна. Она осунулась, лицо ее стало маленьким, заостренным и бледным, она никогда еще не выглядела так дурно. Казалось, из голой видимости и призрачности ее существования внезапно прорвалась потрясающая действительность. Все в ней, что прежде было под сомнением, теперь стало совершенно отчетливым и ясным: ее болезнь, ее неприязнь ко мне, ее неприязнь к Церкви, ее ненависть к Святым Дарам. Все это ложное спокойствие и довольство, эта разумность и гладкость разверзлись, как могила, и вернули все, что там когда-то было захоронено, но только уже в устрашающе искаженном виде. Теперь стало ясно, как много она потеряла за это время и как одичала ее душа в этом склепе внешней гармонии. Изящная, любезная и очень сдержанная дама в глазах всех окружающих, она в действительности потеряла даже свое самообладание, эту самую характерную и последнюю часть своей замкнутой натуры. Она превратилась вдруг в больного, раздраженного и озлобленного человека.
Однажды, когда я прервала нашу с ней беседу, услышав звон колоколов, отбивавших «Аве Мария», она скривила рот в усмешке и тут же спросила меня что-то о незатейливой песенке, которую как раз в эту минуту кто-то напевал внизу на площади. Ей никогда не было никакого дела до подобных песен единственное, что ею двигало в этот момент, – это желание помешать моей молитве.
Но хуже всего бывало по утрам в те дни, когда она знала, что я только что вернулась из церкви. Я теперь жертвовала ради нее раз в неделю Святым причастием, и она всегда чувствовала день, когда это происходило, хотя это не был какой-либо определенный день; она чувствовала даже приближение этого дня, словно ей кто-то сообщал о нем. Каждый раз, когда я, еще словно освещенная изнутри Благодатью, подходила к ее постели, она осыпала меня упреками по самым невразумительным поводам, так, как будто всю ночь бороздила пашню нашей совместной жизни в поисках какого-нибудь давно забытого случая, дававшего ей основание причинить мне боль. По ее словам получалось, что я всю жизнь была для нее камнем преткновения, источником огорчений и неприятностей. Она даже извлекла на свет Божий свою расстроившуюся помолвку с моим отцом – только чтобы выразить свое отвращение к моей близости. Часто она просто гневно требовала, чтобы я удалилась и не показывалась ей на глаза, заявляла, что больше не желает меня видеть. Если же я просила Джульетту сменить меня у ее постели, она настаивала на том, чтобы за ней ухаживала не услужливая горничная, а я: казалось, с ней происходит нечто подобное тому, что происходило прежде, когда она непрерывно говорила о Церкви, уже отпав от нее, словно весь путь, который она прошла, теперь еще раз разворачивался в обратной последовательности. Для меня эта мысль заключала в себе большое утешение. А еще я находила утешение в том, что тетушкины нападки всегда были адресованы лично мне. Я испытывала какое-то особое чувство – некое постоянное взаимопроникновение счастья и надежды, ибо это вселяло в меня веру, что мне выпала честь защищать Спасителя (ведь, конечно же, именно Его она и имела в виду) и, в сущности, как бы взять на себя тяжелый крест, который Он нес ради спасения ее души, а это, быть может, когда-нибудь пригодится и ей. Тетушка уже больше не внушала мне страха, который порой охватывал меня в последнее время перед моим воцерковлением, несмотря на всю мою любовь: она уже претерпела в моей душе то превращение, на которое я надеялась. Когда она говорила мне что-нибудь обидное, я почти в то же самое мгновение видела ее своим внутренним оком в том состоянии, в котором она когда-то помогла мне на моем пути к Богу; когда она насмехалась над моей молитвой, я видела ее объятой молитвенной болью о моей вере; сталкиваясь с ее резкостью и злостью, я почти наяву ощущала нежность, с которой она заботилась обо мне в моем детстве, во время моих болезней. Впрочем, никакого другого утешения, кроме внутреннего, я пока не знала.
Тетушка была приветлива теперь только с кошками, как в свое время моя бедная матушка, когда она уже страстно ненавидела моего отца и вообще всех людей. Даже по отношению к Жаннет тетушка уже не в состоянии была держать себя в руках. Жаннет тем временем сняла маленькую бедную квартирку в Риме, на заднем дворе одного старинного дворца, минуя гордый портал которого чувствуешь себя монархом, но очень скоро, поднимаясь по бесконечным лестницам, вновь превращаешься в смиренного подданного. Я часто навещала Жаннет. Ее супруг, выписанный из госпиталя, теперь действительно представлял собой жалкое зрелище. Жаннет, добрая душа, честно делила с ним его страдания, находя при этом большое утешение в том, что он хоть и не образумился, но зато был теперь лишен возможности продолжать свою беспорядочную жизнь. Сам он, разумеется, не был от этого в восторге, однако он принадлежал к тем людям, которые просто не умеют быть несчастными: тщеславие и жажда величия вновь и вновь успешно возносили этого горемыку над убожеством его жизни; язык его не пострадал, и этот язык почти каждый раз, когда я приходила к ним, расписывал мне счастье, которое Мсье Жаннет испытывал оттого, что может, наконец, дать своей жене домашний очаг, после того как она долгие годы ютилась у чужих людей. Жаннет (она тогда кормила своего мужа, зарабатывая на жизнь уроками, так как завещанная ей бабушкой небольшая сумма еще пока не могла быть полностью выплачена) в такие минуты лукаво посмеивалась, глядя на меня, и я тоже не могла удержаться от смеха.