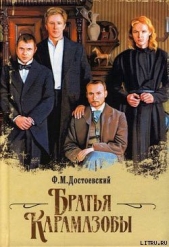Врачевание и психика

Врачевание и психика читать книгу онлайн
Месмер, этот "трагический одиночка", открывший эру психотерапии, первый в ряду новых психологов, но пришедший слишком рано и потому приписанный к шарлатанам, Мери Беккер-Эдди - изобретательница Christian Science (метода врачевания верою), учительница величайшей религиозной общины в Америке и Зигмунд Фрейд - создатель направления глубинной психологии и психоанализа - вот герои трилогии Ст.Цвейга о врачевателях души.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этой уравновешенности внутренних сил не противоречит и внешний образ. И здесь полнейшая пропорциональность всех черт, до конца гармоническое сочетание. Не слишком высокий и не слишком низкий рост, не слишком плотное, но и не слабое сложение. Годами отчаиваются карикатуристы по поводу его лица, ибо в этом безукоризненно правильном овале не найти никакого указания для игры художественного преувеличения. Тщетно стали бы мы рассматривать, один за другим, его портреты поры молодости, чтобы подглядеть какую-нибудь преобладающую линию, что-либо по существу характеризующее. Черты лица тридцатилетнего, сорока- и пятидесятилетнего Фрейда говорят только одно: красивый мужчина, мужественный человек с правильными, пожалуй, чересчур уж правильными чертами лица. Правда, сосредоточенный взор темных глаз вызывает представление о духовности, но при всем желании в этих поблекших фотографиях не откроешь больше того, что наблюдаем мы в излюбленных Ленбахом [155] и Макартом [156] портретах - обрамленное выхоленною бородою лицо врача, идеально мужественного склада, смуглое, мягкое, серьезное, но в конечном счете мало изъясняющее. Уже думаешь, что придется отказаться от какой бы то ни было попытки выявить характерное в этом замкнувшемся в своей гармонии лице. И тогда вдруг начинают говорить последние портреты. Лишь старость, обычно смывающая у большинства людей основные черты индивидуальности и размельчающая их в тусклую глину, лишь патриархальный возраст приступают к Фрейду с резцом художника; лишь болезнь и преклонные годы непреложно изваивают физиономию из лица как такового. С тех пор как волосы поседели и борода, когда-то темная, не оттеняет так округло жесткого подбородка и резко сомкнутого рта, с тех пор как выступает наружу костисто-пластическое строение нижней части лица, обнаруживается нечто жесткое, агрессивное, обнаруживается неумолимость, чуть ли не неприязненность его волевого начала. Его взор, прежде взор простого наблюдателя, впивается теперь глубже, сумрачнее, упорнее, неотступнее, горькая складка недоверия прорезает, словно шрам от раны, его открытый, в морщинах, лоб. И напряженно, как бы отклоняя: "Нет!" или "Неправда!", смыкаются узкие губы. Впервые чуешь в этом лице упорство и строгость фрейдовской натуры; чуешь: нет, это не good grey old man [275], ставший к старости кротким и обходительным, но твердый, неумолимый исследователь, который не дается в обман и никогда не согласен обманываться. Человек, которому побоишься солгать, потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка следит за каждою попыткою уклониться и заранее видит каждый потайной уголок; лицо, может быть, скорее гнетущее, чем сулящее облегчение, но великолепным образом оживленное напряжением проникновенности, лицо не простого наблюдателя, а беспощадного провидца.
Следует отказаться от всяких льстивых попыток отрицать этот налет ветхозаветной суровости, эту жесткую непримиримость, которые светятся почти угрожающе во взгляде старого борца. Ибо если бы не было у Фрейда этой остроотточенной, открыто и беспощадно выступающей решимости, то вместе с нею не стало бы и лучшего, самого решающего, что есть в его подвиге. Если Ницше философствовал ударами молота, то Фрейд всю жизнь оперировал скальпелем; такие инструменты не созданы для руки мягкой и податливой. Условности, церемонии, жалость и снисходительность были бы ни в какой мере несовместимы с радикальными формами мышления, свойственными его творческой природе; ее смысл и назначение были исключительно в выявлении крайностей, а не в их смягчении. Воинственная решимость Фрейда признает только "за" или "против", только "да" или "нет", никаких "с одной стороны" и "с другой стороны", "между тем" и "может быть". Там, где речь идет об истине, Фрейд ни с чем не считается, ни перед чем не останавливается, не мирится и не прощает; как Иегова [157], он отпустит вину скорее отступнику, чем наполовину усомнившемуся. Полувероятности не имеют для него цены, его влечет только чистая, стопроцентная истина. Всякая расплывчатость, как в личных отношениях одного человека к другому, так и в форме высокопарных туманностей человеческой мысли, именуемых иллюзиями, вызывает в нем неистовое и почти ожесточенное желание отделиться, отмежеваться, распоряжаться самостоятельно до конца; взор его во что бы то ни стало должен созерцать всякое явление во всей остроте непреломленного света. Но эта ясность видения, мышления и созидания не означают для Фрейда какой-либо напряженности, какого-либо волевого акта; анализировать - это неизменно ему присущее, это врожденное и неистребимое влечение его натуры. Там, где Фрейд сразу же и до конца не понимает, он уже не договорится о понимании; там, где он не видит ясно сам по себе, никто ничего ему не разъяснит. Его взор, как и ум его, самовластен и непримирим; и как раз в военных действиях, в одинокой борьбе с подавляющими силами противника выявляется полностью агрессивность его мышления, природою выкованного наподобие остро режущей стали.
Но жесткий, строгий и неумолимый к другим, Фрейд проявляет те же жестокость и недоверие к самому себе. Привыкший к тому, чтобы угадывать самую замаскированную неоткровенность другого человека в тайных дебрях его бессознательного, открывать за одним пластом другой, более глубокий, за каждой истиной - другую, еще более достоверную, за каждым признанием другое, еще более искреннее, проявляет он и по отношению к себе ту же бдительность контроля. Поэтому столь часто употребляемое выражение "отважный мыслитель" кажется мне, в отношении Фрейда, не слишком удачным. Идеи Фрейда не имеют ничего общего с импровизацией и едва ли обязаны многим интуиции. Чуждый в своих формулировках легкомыслия и поспешности, он часто целые годы колеблется, прежде чем открыто высказать как утверждение какое-либо свое предположение; его конструктивному гению совершенно не свойственны игра мысли и скороспелые построения. Опускаясь в глубины не иначе как ступенька за ступенькой, осторожный и отнюдь не восторженный, Фрейд первым замечает всякое шаткое положение; несчетное число раз встречаются в его сочинениях такие указания, как: "Возможно, это только гипотеза" или "Я знаю, что в этом отношении мало могу сказать нового". Истинное мужество Фрейда начинается позже, когда появляется уверенность. Только после того как этот беспощадный разрушитель всяческих иллюзий убедит до конца самого себя и поборет свои собственные сомнения, излагает он свою систему, уверенный в том, что не прибавит к мировым иллюзиям еще одну грезу. Но как только он постиг и открыто признал какую-либо идею, она входит ему в плоть и кровь, становится органической частью его жизненного существования, и никакой Шейлок [158] не в состоянии вырезать из его живого тела хоть частицу ее.
Это твердое отстаивание своих взглядов противники Фрейда с раздражением именуют догматизмом; порою даже его сторонники жалуются на это, громко или тихомолком. Но эта категоричность Фрейда неотделима, характерологически, от его природы; она вытекает не из волевой установки, а из своеобразного, особого устройства его глаза. Когда Фрейд рассматривает что-либо творчески, он глядит так, как будто этого предмета никто до него не наблюдал. Когда он думает, он забывает все, что думали об этом до него другие. Он видит свою проблему так, как должен ее видеть по необходимости, по природе; и в каком бы месте он ни раскрыл Сивиллину книгу души человеческой [159], ему раскрывается новая страница; и прежде чем его мышление критически к ней отнесется, глаз его почерпнул все что нужно. Можно поучать людей относительно ошибочности их мнения, но нельзя внушить того же глазу в отношении творческого его взора: видение находится по ту сторону всякой внушаемости, так же как творчество - по ту сторону воли. А что же именуем мы истинным творчеством, как не способность взглянуть на издревле установившееся так, как будто никогда не озаряло его сияние земного ока, высказать наново и в девственной форме то, что высказывалось уже тысячекратно, и притом так, словно бы никогда уста человеческие этого не произносили. Эта магия интуитивного прозрения, не поддаваясь выучке, не терпит и никаких наущений; упорство гения в отстаивании однажды и навсегда им увиденного - это не упрямство, а глубокая необходимость.