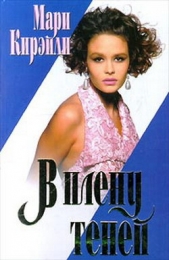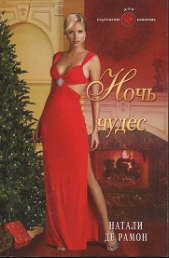Тридцать три урода. Сборник
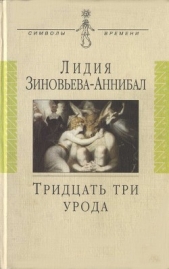
Тридцать три урода. Сборник читать книгу онлайн
Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».
Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.
В России издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гляжу в безмерные витрины магазинов. Лежит культура на выставках оконных и так умильно глядит мильярдами отдельных головок, словно каждая милая вещь, тихая и невинная, скрывает в себе свою бабочку-Психею; и вижу глаза каждого предмета, который создан, и ожил, и просит любви. Вот канделябр из бронзы, вот кожаный несессер, вот статуэтка фарфоровая, и скрипка, и куст пунцовых роз, и зеленая бронзовая ящерица, и восковая кукла, и кружевная рубашка без тела — и еще, и еще, и еще… И вот эти люди в коротких юбках и длинных талиях, с ангельскими лицами и кудрями, очень красивыми, но однообразными, или те, в коляске, или тоже по тротуару тягуче шествующие в тесных шелках, с узкими, строгими и дивно выточенными чертами и голубым шелком сиренных глаз, и их великочелюстные, накрахмаленные, осклабленные кавалеры, с подстриженными белесыми баками, или небрежно качающие долгий, гнуткий стан смуглые и бархатноглазые юноши…
Слышу хохот острый, визгливый. Он странен в нарядности строгой улицы. Никто не хочет слышать, и лица равнодушны. Идут три девушки, очень молодые, заняли полтротуара в ширину, за руки держатся и хохочут. Черные, порыжелые платья обвисли на худых, неукутанных ногах, шлепают стоптанные башмаки, и дыры на чулках, обнаженных по щиколотку. Черные, голые соломенные шляпы грибами над белыми лицами с синими подглазниками и рыскающий взгляд жадно разгоряченных глаз. Идут, качаются, худыми руками сцепившимися костляво дергаются, поддерживаясь.
Никто не видит. Даже не обходят. Близко, вплотную проталкиваются. Да ведь их нет, визгуний, на Оксфорд-стрит…
Два вечера выжил, не заходя к Ральфам. Но общая вялость и сосущая тоска не давали ни работать, ни думать. Это — как наваждение. Я одержим. И не хочу..
Все же пошел вчера, сейчас после обеда. Было это неприлично, потому что в воскресенье никто ни к кому, кроме совсем своих, не ходит.
Знал же я о воскресенье вчера весь день, с утра было ошибся и пошел к Музею. Но тотчас стало странно на улице. Тихо, пусто. Вяло передвигались отдельные пешеходы. Беззвучно пробирались хэнсомы. Лица вытянулись, и сильные, молчаливые челюсти плотнее и упрямее притиснули широкие зубы. Плотнее и безнадежнее притворились двери узеньких домиков, иссера-черных, трехэтажных, плотно и однообразно один к другому нерасчлененными длинными рядами прилаженных, с решетками, отделяющими от тротуаров провалы, чрез кои ведут входы в кухонные подземия, с однообразными рядочками мелом помазанных каменных ступенек.
Здесь у каждого джентльмена свой плотно закрытый от улицы дом, и не войти улице в отделенный дом, где все блестит чистотою, и часы, и дела, и мысли распределены. Но если у вас нет своего дома, не стучитесь в чужой: там, на полый стук дверного молотка, вам откроет и откажет, после долгого и жуткого ожидания, строгая прислуга в белом чепце, страж несокрушимой пристойности и хома [87]. Есть и вас зовущее местечко, ласковое и щедрое: Темза течет бледными, мутными, льнущими, лижущими, ласковыми струями; и широко, и глубоко ее неисчерпное дно. Кружится голова, и тихо, настойчиво, непобедимо просит сердце покоя… Кто его разбудил, чтобы так биться?..
Большие решетчатые ворота Музея были плотно заперты, и просторный двор с его газонами — далекий и пустынный — охватили с трех сторон сильные, черные ионические колоннады {107}, и дразнили скульптуры фронтона {108}, и звали, дразня, струйки водоемов — там, под насупленным кровом архитрава {109}, наверху широких ступеней входа.
Понял — и повернул домой.
Все витрины магазинов плотно задвинулись ставнями, и строго смотрели окна нижних этажей с их мозаичными или затушеванными стеклянными ширмами.
Жизнь вся затаилась скупо и разделенно. Мир воплотился всецело во времени и пространстве…
Дома за ранним воскресным обедом доктор Нэш, захлебываясь и самодовольно ухмыляясь, сообщал нам содержание утренней проповеди его любимого, модного пастора. Он масон и вечером собирается в ложу, но раньше еще с женою должен заглянуть в Хэмпстэд: там доктор Фрэнк будет говорить, и это очень полезно — его послушать… И стала бойко сообщать свои впечатления его моложавая, бездетная, ядреная и решительная супруга — та самая, которая перед приездом в наш бординг-хаус напугала сладимую и грязную миссис Брук, потребовав себе отдельную от мужа односпальную кровать:
— В прошлое воскресенье д-р Фрэнк до того хорошо говорил о братстве, что мне трудно было удержаться от слез. Весь мир я любила и чувствовала себя такою хорошею христианкой, что подумала: «Счастливый мистер Нэш, имеет такую жену!» Но, выйдя с баса на Стрэнде, вдруг я увидела негра. Все блестело у него: черная кожа, белые белки и зубы, и красные выпяченные губы, и плотные завитки волос. И я подумала: «Нет, негр — не мой ближний».
И она хохотала, и кто-то вскоре стал обвинять кого-то, что под столом шалят ногами, и миссис Нэш громко взвизгивала, а после десерта спряталась за дверь, и все ее искали, потом вылавливали оттуда. А доктор Нэш кичился:
— Какова моя жена!..
Дождался вечера и до холодного воскресного ужина, уже в сумерки, бежал по Юстон-роду к углу Хэмпстэд-рода. Воздух сжался первым осенним холодком, и стояла плотность различных запахов, пыли и дыма, который в нескольких местах вырывался смурыми клубами из каких-то подземных жерл посреди мостовой [88].
Мимо меня спешили воскресные джентльмены в цилиндрах, отвлеченного от мира и страстей вида; к ним незаметно обращали тихие слова печально-строгие женщины, длинные, худые, в черных кофтах и юбках и черных соломенных шляпах, без румян и неприкрашенные. В Англии не любят соусов в кухне, высоких слов в названии профессий и украшений на проститутках.
Изредка шли грубые, простоватые люди, подвыпившие, разящие джином и виски, с краснощекими лицами и длинными, тугими мускулами высоких и сильных тел. Толкались торопливые дамы, опустив глаза, как бы не желая видеть безусловного неприличия и буро-черного цвета широкой улицы, где даже дома были нежилые, но высокие, странно крупные, совсем темные и с нагло-голыми окнами.
На углу Тоттенгэм-Кортрода и Юстон-рода было такое движение хэнсомов, кэбов и басов, что все мое внимание на эти минуты вернулось мне, и я нырнул, как между двумя валами, в два встречных потока качливых басов, двигавшихся левою стороною улицы, — вперед и между ними, под мордами прочих лошадей, — и оказался по ту сторону уже на тротуаре, где, терпеливо и снова забывая место в головокружительном верчении, стоне, гуле резкого треска бичей и острых выкриков кондукторов на лондонских жестких л и ай, — стоял и ждал… Все движение и весь шум странно стали, и шум стихал в одно серое мелькающее жужжание, и в странной тишине млело сердце чудным ожиданием и тонуло, тонуло, чтобы одним биеньем остановиться совсем…
Пропустил «Хэмпстэд-Хиф»! [89] Дернулся бежать. Смотрели. Кто-то хихикнул… Проснулся. Стоял снова, потому что бас улепетывал, качая задом, как гиппопотам, и зеленый с красною полосой глаз прыгал свирепо, защищая отступление.
Прибрел на прежнее место. Еще длилось томление. Но уже — она со мною. Это внезапное ослабление во всем теле, легкость его… И прозрачнеет тяжелая улица, и та церковь на тесной неосвещенной площадке напротив — черный призрак, острый и зловещий в ограде дикого камня, пронзающий злобно спустившуюся вокруг нее мглу, — и крики, и раскаты непрерывных громоздких басов, и эти лица, чужие, отъединенные, и глаза из них, как бойницы крепостей — тел непроницаемых… Все пенится, и шуршат в ушах бесчисленные лопающиеся пузырьки.