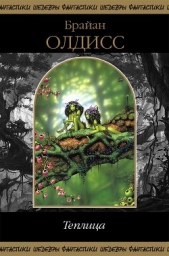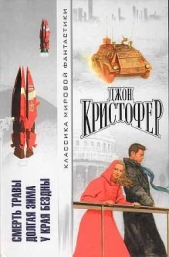Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме

Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме читать книгу онлайн
Социально-критические романы Вольфганга Кёппена (р. 1906) хорошо известны советскому читателю.В романе «Голуби в траве» описан один день большого западногерманского города в период начала так называемого «экономического чуда». Писатель показывает зыбкость и непрочность благополучия, создаваемого в атмосфере холодной войны.Роман «Теплица» передает обстановку закулисной парламентской борьбы.В романе «Смерть в Риме» талант писателя раскрывается с особой силой.В. Кёппен пишет о зловещих симптомах неонацизма в ФРГ. Образ матерого эсэсовца Юдеяна - сатирическое обобщение, не имеющее себе равных в современной немецкой литературе
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Элька уже не помнила, как кочевала потом то с одним, то с другим обозом.
Маленький котенок Кетенхейве внушал Эльке доверие. Девушка и котенок были молоды, они играли друг с другом. Им нравилось комкать рукописи Кетенхейве и бросаться ими. Когда Кетенхейве, закончив свои многочисленные дела, в которые он все глубже и глубже погружался и которые все больше и больше разочаровывали его, возвращался домой, Элька кричала: «Хозяин идет!» Хозяином Кетенхейве был, видимо, и для нее. Но вскоре возня с котенком наскучила Эльке. У нее портилось настроение, когда Кетенхейве сидел вечером за своими бумагами, в ту пору еще одержимый желанием помогать, строить, залечивать раны, возделывать хлеб; они решили обвенчаться, потому что их дружба дала трещину.
Этот брак все осложнил. Во всех анкетах, которые были придуманы национал-социалистами, но доведены до полного совершенства их победителями - во всех этих анкетах Кетенхейве числился теперь зятем покойного гаулейтера. Это многих настораживало, хотя самого его нимало не беспокоило; Кетенхейве всегда был против того, чтобы родственники политических врагов, а стало быть, и его жена, подвергались преследованиям. Хуже, что сам брак пришелся ему не по душе. Кетенхейве был холостяк, одиночка, может быть, сладострастник, может быть, анахорет, он и сам толком этого не знал, колеблясь между разными формами бытия. Верно было лишь одно - женитьба оказалась ему не по плечу и доставляла излишние заботы. Вдобавок он женился (и с удовольствием) на девочке, которая по возрасту годилась ему в дочери, и рядом с ней, такой молодой, ему пришлось признаться, что сам он еще не стал взрослым. Они подходили для любви, но не для совместной жизни. Он умел наслаждаться, но не умел воспитывать.
Кетенхейве не очень-то ценил воспитание, но видел, что Элька чувствует себя несчастной от избытка свободы. Она не знала, что делать с этой свободой. Она терялась в ней. Кажущаяся безмятежной жизнь представлялась Эльке бескрайним океаном, омывающим ее со всех сторон, океаном пустоты, чье бесконечное уныние оживлялось лишь волнами удовольствий, пеной пресыщения, ветром минувших дней. Кетенхейве встретился на жизненном пути Эльки, как дорожный указатель, но лишь для того, чтобы сбить ее с верного пути. А потом после множества слияний Кетенхейве пережил новое для него (и ему не предназначенное) гнетущее чувство смертной тоски, чувство смертного греха, какое возникает у праведников. Зато он впервые утолил свой голод.
Элька бурно требовала любви. Она была чувственной женщиной, разбуженная в ней жажда нежности не знала границ. Она говорила: «Обними меня крепче!» Она вела его руку. Она говорила: «Погладь меня!» У нее горели бедра, все тело ее пылало, она говорила непристойности, она кричала: «Возьми меня! Возьми меня!» И Кетенхейве терял голову, он вспоминал о том, как он голодал, как скитался по улицам чужих городов, куда его забросило отвращение к родителям Эльки, он вспоминал о тысячекратном соблазне витрин, о назойливых манекенах в наивно-непристойных позах, о развешенном белье, о рекламах, на которых женщины натягивали чулки по самые бедра, о девушках, языка которых он не знал и которые, леденя и обжигая, вереницей проходили мимо него. Истинное наслаждение до сих пор грезилось ему лишь во сне, во сне он испытывал плотские чувства, лишь во сне ощущал привлекательность женского тела, слияние в одно, ощущал чужое дыхание, горячие запахи. А поспешно удовлетворенная похоть в каморке, снятой на час, на парковых скамейках, в закоулках старой части города - разве можно было сравнить это с утомляющим соблазном нанизанных одна за другой секунд, с цепью минут, замкнутым кругом часов, колесом дней, недель и лет, соблазном навеки, да еще постоянной возможностью удовлетворять свои желания в брачном союзе, когда ты в ужасе, что этому не будет конца, решаешься на крайность.
Элька ласкала его. В то время часто выключали свет. Темные ночи действовали угнетающе. Кетенхейве приобрел для работы аккумуляторную лампу. Элька ставила лампу рядом с кроватью, и яркий свет падал на лежавших, словно луч прожектора, выхватывающий из темноты ночной улицы голую парочку. Элька долго и внимательно рассматривала Кетенхейве. Она говорила: «В двадцать лет ты, наверное, был красивым». Она говорила: «Ты любил многих женщин». Кетенхейве было тридцать девять. Женщин он знал немногих. Элька говорила: «Расскажи мне что-нибудь». Она считала его жизнь бурной и яркой, полной непонятных ей поворотов, считала его чуть ли не авантюристом. Эльке все это было чуждо. Она не понимала, какую звезду он выбрал себе путеводной. Когда Кетенхейве ей рассказал, почему он не мог согласиться с политикой национал-социалистов и уехал за границу, Элька не поняла причины его поступка, разве что была какая-то невидимая и, уж во всяком случае, неощутимая причина нравственного порядка. Она говорила: «Ты как школьный учитель». Кетенхейве смеялся. А может быть, смеялся только его рот. Может быть, он всегда был таким старым учителем, старым школьным учителем и старым школяром, невоспитанным учеником, который не знал урока, потому что любил книги. Со временем Элька возненавидела его книги, ее возмущали бесчисленные фолианты сочинений, бумаги, тетради, журналы, вырезки и наброски, которые валялись повсюду и уводили Кетенхейве из ее постели в сферы, куда ей не было пути, в миры, в которые для нее не было доступа.
Деятельность Кетенхейве, его участие в послевоенном восстановлении, его стремление создать для нации новые основы политической жизни и демократической свободы привели к тому, что его избрали в бундестаг. Его кандидатуру выдвинули на особых условиях, и Кетенхейве получил мандат, даже не утруждая себя предвыборными выступлениями. Окончание войны вселило в него надежды, и какое-то время он думал, что посвятит себя настоящему делу, после того как долго оставался в стороне. Кетенхейве хотел осуществить свои юношеские мечты, он верил тогда в перемены, но вскоре понял, как глупо было в это верить, ведь люди, конечно, остались прежними, они даже и не думали изменяться оттого, что изменилась государственная форма правления, оттого, что вместо коричневых, черных и серо-зеленых мундиров по улицам теперь расхаживали и делали девушкам детей оливковые мундиры. И снова все рухнуло из-за мелочей, из-за вязкой тины, поднявшейся со дна и задержавшей поток чистой воды, все осталось по-прежнему, в заведенных испокон веков формах жизни, о которых каждый знал, что они лживы. Поначалу Кетенхейве рьяно взялся за работу в различных комитетах, ему не терпелось наверстать упущенные годы, а как бы он процветал, если бы примкнул в свое время к нацистам, ибо то было пробуждение, проклятый взрыв помешательства его поколения, а теперь все его старания преданы анафеме, и он, седеющий юнец, стал посмешищем, он потерпел поражение, едва успев начать.
То, что он потерял в политике, что отвоевали у него и что он сам вынужден был сдать, он потерял и в любви: политика и любовь пришли к нему слишком поздно. Элька любила его, а он ездил по бесплатному депутатскому билету за призраками, за призраком свободы, которой боялись и которую отдали на откуп философам для бесплодных обсуждений, за призраком прав человека, о которых вспоминали лишь тогда, когда становились жертвой произвола; все эти проблемы оказались бесконечно трудными, от них можно было прийти в отчаяние. Кетенхейве вскоре понял, что снова находится в оппозиции, хотя вечно быть в оппозиции не доставляло ему уже никакого удовольствия; он спрашивал себя: могу ли я что-либо изменить, могу ли что-либо улучшить, знаю ли я, каким путем надо идти? Нет, этого он не знал. Каждое решение было связано с тысячами «за» и «против», практическая политика напоминала лианы, лианы тропического леса, джунгли, где попадаются хищные звери, где можно быть мужественным, можно защищать голубя от льва, но где тебя исподтишка ужалит ядовитая змея. Впрочем, в этом лесу львы были беззубыми, а голуби - не такими невинными, как они о том ворковали, только змеиный яд оставался все еще сильным и действенным, и змеи умели выбрать удачный момент для смертельного укуса. В этом лесу Кетенхейве прокладывал себе дорогу, то и дело сбиваясь с пути.