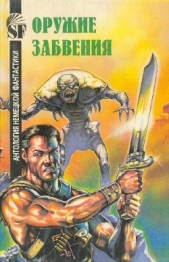Долой оружие!

Долой оружие! читать книгу онлайн
По изданию Ф. Павленкова, 1903. Предисловие Р. Сементковского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
III.
Впоследствии между бумагами Фридриха я нашла письмо, посланное мною ему в те дни на театр войны. В нем ясно отразились чувства, волновавшие меня в то время.
Грумиц, 28 июня 1866 г.
"Дорогой мой! Я не живу… Представь себе, что в соседней комнате люди совещались бы о том, следует ли меня казнить завтрашний день, или нет, а я за дверями ожидала бы решения своей участи. Таково и мое настоящее положение. В моем томительном ожидании, я конечно дышу, но разве можно назвать это жизнью? Соседняя комната, где решается для меня роковой вопрос, это Богемия… Но нет, возлюбленный, нарисованная мною картина слишком бледна. Если б тут дело шло лишь обо мне, я не боялась бы так сильно. Нет, я дрожу за жизнь гораздо более дорогую, чем моя собственная. Кроме того, меня терзает страх чего-то худшего для тебя, чем сама смерть: смертельных мук, которые грозят каждому из вас… О, если б все это поскорее миновало! Я молю судьбу, чтоб наши войска одерживали победу за победой, не ради самих побед, а ради ускорения конца.
"Попадет ли в твои руки это письмо? Где и когда? Получишь ли ты его после жаркой битвы в лагере или, пожалуй, в лазарете?… Но, во всяком случае, тебя обрадует весточка от твоей Марты. Хотя я не могу писать тебе ничего веселого – что же, кроме печали, в состоянии испытывать я в то время, когда солнце, в интересах отечества, завешано черным гробовым покровом, готовым опуститься на сынов родной земли? – но все же эти строчки принесут тебе отраду, Фридрих, потому что ты любишь меня, – я знаю, как сильно любишь, – и слово, написанное мною, радует и волнует тебя, как нежное прикосновение моей руки. Я вечно с тобою, помни это; каждая моя мысль, каждый вздох принадлежат тебе днем и ночью… Здесь, в кругу родных, я двигаюсь, действую и говорю механически: мое сокровеннейшее "я" принадлежит одному тебе, не покидает тебя ни на минуту… Только Рудольф напоминает мне, что в мире есть еще нечто, что не называется: "ты". Добрый мальчик! если б ты знал, как он о тебе расспрашивает и беспокоится! Наедине мы не говорим ни о чем, кроме как о нашем "папа". Чуткий ребенок понимает, что этот предмет ближе всего моему сердцу, и, как ни мал мой Руди, ты знаешь хорошо, что он заменяет друга своей матери. Я уже начинаю с ним толковать, как со взрослым, и он благодарен мне за это. С своей стороны, я благодарна ему за любовь к тебе. Это такая редкость, чтобы пасынки или падчерицы любили отчима или мачеху; но правда, что ты всегда относился к нему, как настоящей отец, и не мог бы нежнее и лучше обращаться с родным сыном, ты мой нежный и добрый! Да, всеобъемлющая, мягкая, кроткая доброта составляет основу твоего характера. По словам поэта – помнишь? – как небесный свод состоит из одного цельного гигантского сапфира, так и величие характера благородного человека составляется из одной добродетели – добросердечия. Другими словами, я люблю тебя, Фридрих! Это неизменный припев ко всему, что я думаю о тебе и твоих свойствах. Ах, моя любовь полна такого доверия, такой уверенности! Я покоюсь в тебе. Фридрих, и мне так хорошо, так отрадно… но разумеется, тогда, когда ты возле меня. Теперь, когда судьба снова разлучила нас, о моем покое не может быть и речи. Ах, если б гроза поскорее пролетела, если б вы были уже в Берлине, чтоб продиктовать королю Вильгельму условия мира! Мой отец твердо убежден, что таков будет конец кампании, и судя по всему, что слышишь и читаешь, этого надо ожидать. "Как только, с Божией помощью, мы одолеем супостата, – говорилось в воззвании Бенедека, – то пустимся преследовать его по пятам, и вы отдохнете во вражеской земле и насладитесь в ней всем, что…" и т. д. Но в чем же будут заключаться эти наслаждения? Ведь в наше время ни один полководец не решится заявить во всеуслышание и без всяких обиняков: "Вам будет позволено грабить, жечь, убивать, позорить женщин", как это говорилось в средние века с целью подстрекнуть воинственный пыл диких полчищ; теперь войскам можно пообещать в виде награды, в лучшем случае, разве бесплатное потребление гороховой колбасы в неприятельской стране, но это вышло бы немного слабо, и потому в воззвании прибегли к цветистым, но уклончивым выражениям: "вы насладитесь…" и т. д. Под этим каждый пусть подразумеваете, что ему угодно. Принцип награды, находимой во "вражеской земле", крепко засел в нашем мозгу и остается по-прежнему родственным солдатскому духу… А каково-то будет на душе у тебя в этой "вражеской земле", откуда вышли твои родители, где живут твои друзья и двоюродные братья? Доставит ли тебе "наслаждение" сравнять с землею прелестную виллу тети Корнелии? "Вражеская земля" – самое это понятие перешло к нам еще из отдаленных времен, когда война была ясно тем, что представляет ее raison d'etre: разбойничьим набегом ради грабежа, когда неприятельская страна манила воина соблазнами добычи…
"Вот я беседую с тобой, как в те прекрасные часы, когда ты был возле меня, когда мы, после чтения какой-нибудь новой книги, философствовали насчет противореча современного строя жизни, и сама беседа была до того задушевна, мы так отлично понимали и дополняли один другого! Вблизи меня решительно нет никого, с кем я могла бы говорить о таких вещах. Доктор Брессер был еще единственным человеком, с которым можно осуждать войну, но он тоже уехал и как раз на театр этой проклятой войны, только с тем, чтобы исцелять раны, а не наносить их. Вот также анахронизм: "гуманность" на войне – внутреннее противоречие. Или одно, или другое: только человеколюбие и война – несовместимы между собою. Искренняя, пламенная ненависть к врагу, соединенная с совершенным презрением к человеческой жизни, – вот жизненный нерв войны. Но мы живем в переходное время. Старые установления и новые идеи действуют с одинаковой силой. И вот люди, не совсем отрешившиеся от старого и не умеющие вполне усвоить новое, стараются сплавить одно с другим, из чего и происходит эта лживая, непоследовательная толчее борьбы с противоречиями, где мы отдаемся всему только на половину. Такое состояние невыносимо для душ, жадно ищущих истины, прямоты и целостности…
"Ах, зачем я пишу все это? Едва ли ты расположен теперь – как в часы наших мирных бесед – рассуждать об отвлеченных предметах; вокруг тебя бушует неумолимая действительность, с которой приходится считаться. Насколько было бы лучше, если бы ты сохранил наивные воззрения прежних времен, когда походная жизнь была солдату отрадой и наслаждением! А еще лучше было бы, если б я могла, как другие жены, писать тебе письма, наполненный пожеланиями успеха на твоем поприще, если б я с уверенностью предрекала победы нашему оружию и старалась воспламенить твое мужество… Ведь в девушках также воспитывают патриотизм для того, чтобы они, когда придет время, напоминали мужчинам: "ступайте на войну умирать за отечество – это прекраснейшая смерть". Или: "возвращайтесь домой победителями, тогда мы наградим вас своею любовью, а до тех пор станем за вас молиться. Господь битв, покровительствующий нашему воинству, услышит наши молитвы. Днем и ночью возносится наша мольба к небесам, и конечно мы вымолим их благоволение: вы возвратитесь, увенчанные славой! Мы даже не боимся за вас, стараясь быть равными вам по отваге… Нет, нет, матери ваших детей не должны быть малодушными, если желают воспитать новое поколение героев. И если нам придется потерять самое дорогое в жизни, никакая жертва для государя и отечества не покажется для нас слишком большою!"
"Вот это было бы письмо, достойное жены солдата, не правда ли? Но не того ты ожидаешь от своей Марты, солидарной с тобой в воззрениях, в твоем негодовании против обветшалого, слепого человеческого безумия… О, как горько, как мучительно ненавижу я его! Я не в силах даже высказать всей глубины этой ненависти.
"Когда я себе представляю два неприятельских войска, состоящих из единичных, разумных и большею частью добрых и кротких человеческих личностей, которые по команде бросаются друг на друга для взаимного истребления, опустошая притом и несчастную страну, где они швыряют, при своей убийственной игре, – точно игральными картами, – "взятыми" деревнями… как только я представлю себе это, мне хочется вскрикнуть: "остановитесь! перестаньте!!" Из ста тысяч, девяносто, взятые в отдельности, наверно остановились бы с охотою, но, взятые в массе, люди рвутся в бой и неистовствуют, как звери. Довольно, однако. Вероятно, тебе будет приятнее узнать что-нибудь о своих домашних. Так слушай же: мы всё здоровы. Отец постоянно волнуется ходом настоящих событий и жадно следит за всем происходящим на войне. Победа под Кустоццей привела его в неизъяснимый восторг. Он говорить о ней с такою гордостью, точно сам одержал ее. Во всяком случае, по его мнению, слава этого дня до того блистательна, что она осеняет и его, как австрийца и генерала, а потому он бесконечно счастлив. Лори, муж которой, как тебе известно, находится в южной армии, также прислала мне восторженное письмо по поводу Кустоццы. Помнишь, Фридрих, как я однажды приревновала тебя на четверть часа к добрейшей Лори? И как потом этот припадок ревности еще больше укрепил мою любовь и доверие? – О, если б ты обманул меня тогда или хоть раз обидел чем-нибудь… я легче переносила бы теперь твое отсутствие, но когда такой муж находится под градом пуль!… Однако буду продолжать свои новости: Лори писала мне, что желала бы провести остаток своего соломенного вдовства у нас в Грумице, вместе со своей малюткой Беатрисой. Разумеется я не могла отвечать ей отказом, хотя, говоря по правде, всякое общество мне теперь в тягость. Я хочу оставаться совершенно одна с моей тоской по тебе, которой никто не может измерить… На будущей неделе у Отто начнутся каникулы. Он горько жалуется в каждом письме, что война началась до, а не после его производства в офицеры, и молить судьбу, чтобы мир не "разразился" раньше его выхода из военной академии. Пожалуй, он и не употреблял слова "разразился, но оно вполне соответствует его понятию о мире, который представляется нашему юноше, в данном случае, настоящей бедой. Ну, конечно, ведь их воспитывают в этом духе. Пока существует война, нужно воспитывать воинственное поколение; а пока существует воинственное поколение, должна быть война… Ах, неужели не найдется выхода из этого заколдованного круга? Нет, благодарение Господу! Любовь к войне, несмотря на всю школьную дрессировку, постепенно ослабевает, и помнишь, как доказывает в своей книге Генри Томас Бокль этот отрадный факт? Впрочем я не нуждаюсь ни в каких печатных доказательствах; стоить мне заглянуть в твое благородное сердце, Фридрих, чтобы убедиться в этом… Опять-таки возвращаюсь к своим новостям: от наших родственников и знакомых, имеющих поместья в Богемии, мы постоянно получаем письма, наполненные горькими жалобами; проходящие войска, хотя бы даже они шли к победе, опустошают страну, высасывают из нее соки; а что еще будет, если неприятель двинется вперед, и битвы станут разыгрываться в той местности, где стоят их замки, лежат усадьбы? Все тамошние помещики готовы к побегу: вещи у них запакованы, драгоценности зарыты в землю. Нечего и думать о веселых поездках на богемские воды, о мирной жизни в своих имениях, о блестящих охотах в осеннюю пору, а что еще хуже всего: нечего рассчитывать на получение обычных доходов с арендованных земель и промыслов. Засеянные поля будут вытоптаны; фабрики, если не сожжены, то во всяком случае остановлены за неимением рабочих рук. "Настоящее горе, – пишут они, – жить на пограничной земле, а другая беда, что Бенедек так долго медлил перейти к наступлению для начала войны с пруссаками. Пожалуй, можно было бы назвать несчастием и то, что вся политическая перебранка не была улажена третейским судом и что кровопролитная кутерьма завязалась на богемской или силезской почве (ведь и в Силезии, если верить словам путешественников, тоже живут люди, есть обработанный поля и жилища), но такой исход никому не приходит в голову.