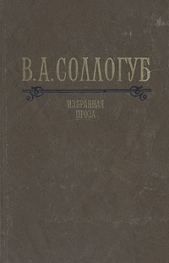Избранная проза

Избранная проза читать книгу онлайн
Людмил Стоянов — один из крупнейших современных болгарских писателей, академик, народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда. Литературная и общественная деятельность Л. Стоянова необыкновенно многосторонняя: он известен как поэт, прозаик, драматург, публицист; в 30-е годы большую роль играла его антифашистская деятельность и пропаганда советской культуры; в наши дни Л. Стоянов — один из активнейших борцов за мир.
Повести и рассказы Л. Стоянова, включенные в настоящий сборник, принадлежат к наиболее заметным достижениям творчества писателя-реалиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты что, не знаешь, что солдатам здесь ходить запрещено?
— Вот как? Не знал.
— Так не отвечают.
— Я отвечаю на ваш вопрос, господин…
— Почему не отдаешь честь?
— Извините.
— Никаких извинений — отправлю под арест.
Я несвязно бормочу:
— Прошу вас… Я тороплюсь по делу… я больной… и раненый…
Вокруг собираются любопытные.
Слышатся голоса:
— Это уж ни на что не похоже!..
— Оставьте человека в покое… Не видите, что он еле на ногах стоит?
Офицер не сдается:
— Нужно научить его порядку и дисциплине. Разболтались все…
— В свое время надо было учить, сейчас уже поздно.
Кто эти доброжелатели? Офицер начинает сбавлять тон:
— Куда идешь?
— В Борисов сад… Повидать нужно кое-кого…
Мой ответ не удовлетворяет его, но, пренебрежительно махнув рукой, он говорит:
— Начальству нужно отдавать честь. Можешь идти, — и удаляется.
Сконфуженный, с пылающим лицом, я стою посреди толпы; наконец, собравшись с силами, продолжаю свою прогулку.
Все расступаются передо мной, скорее из боязни, чем из уважения. У меня настолько несуразный вид, что люди бледнеют и стараются поскорей отойти подальше. Я — живой укор, призрак, явившийся сюда из окопов Калиманского поля, чтобы смутить нечистую совесть всех этих людишек, пристроившихся в теплых местечках, уцепившихся за юбки своих жен; всех этих поставщиков низкопробных товаров и гнилого снаряжения, заплесневелой брынзы и недопеченного хлеба, поставщиков полушубков, раздаваемых в июле, и оптимистических газетных статей, печатающихся после поражения; всех тех, кто заполнил сегодня улицы вместе со своими родственниками из бесчисленных канцелярий, лазаретов, казарм; дипломатов, непригодных быть даже кучерами, генералов, оставшихся без армий, — всего этого безответственного мира, вороватого и подлого, с его хваленым «патриотизмом», да, да, теперь ясно, почему Антон хотел расквитаться с войной…
Голос мальчишки-газетчика:
— В Бухаресте подписан мир! [42] Знамена свернуты до лучших времен!
И тут же добавляет себе под нос:
— Как же, ждите…
Я размяк от размышлений, разволновался при воспоминании о тех, кто сложил свои головы в Македонии… Милые друзья, славные ребята… Да будет земля вам пухом.
Офицер был прав: солдатам не следует появляться тут — особенно в таком неприглядном виде, как у меня, оскорбляющем благопристойность, портящем настроение публике.
Нигде не видно ни одного солдата, если не считать какой-нибудь расфранченной штабной птицы — писаря или ординарца.
Вдруг сердце у меня замирает. Перед глазами вертятся красные круги и красные лампасы.
Генерал.
Козыряю с грехом пополам, не вытянувшись во фронт.
Он останавливается.
— Откуда прибыл, служивый?
— С фронта, господин генерал.
— Ты здесь не задерживайся, а то нагорит тебе от какого-нибудь молодого офицерика, — есть среди них ретивые. Тебя где ранило?
— На Калиманском поле, господин генерал…
— Молодец, браво… Но очень уж ты отощал…
— От болезни…
— И болезнь еще ко всему?
— Да, холера.
— Смотри ты, смотри… Поздравляю с избавлением.
Генерал — плотный человек с толстым, мясистым лицом и русыми, закрученными усами, — очевидно, любитель громкой фразы и парадного жеста. Он обращается к толпе любопытствующих, собравшихся вокруг нас в ожидания «зрелища».
— Приятно, господа, видеть настоящего солдата, исполнившего свой долг. Да. Мало таких людей, и мы обязаны шапку перед такими снимать. А ты, юноша, лучше перейди отсюда на улицу Аксакова, чтобы не наживать неприятностей…
Он быстрыми шагами удаляется, восхитив публику отеческим обхождением с простым солдатом, который, при всем этом, получил приказание освободить улицу от своего присутствия.
Я иду дальше по направлению к Орлову мосту.
Ну, думаю, этот уж, конечно, узнает меня.
Приятельски улыбаюсь ему, смотрю прямо в глаза. Известный писатель, автор патриотических рассказов. Мгновение он стоит, пораженный моим видом. Затем здоровается.
— Смотри-ка! Как же ты отощал…
— Да, много пришлось пережить, но…
— Неужели не нашлось никого другого, чтобы гибнуть в тех диких краях?
— Что поделаешь — долг перед отечеством, как говорится…
— Ведь ты же архитектор, почему тебя не взяли хотя бы в саперы… Черт возьми, без смеха смотреть невозможно… Извини, но в этом одеянии у тебя такой жеваный вид! Ха-ха-ха-ха! Послушай, надо повидаться. Приходи, мы по-прежнему собираемся в кафе «Болгария», обсуждаем события. Там все братья-писатели, играем в таблу, шахматы и проливаем свет на политику…
— Значит, все по-старому?
— Да.
— Все здоровы?
— Дураков нет, чтоб позволить распороть себе брюхо ни за что ни про что…
— То есть как?.. А отечество… долг…
— Я хотел сказать, берегут свою жизнь для более благородных целей — для искусства… Одни сражаются винтовками, другие — пером… Вот я, например, — скоро выходит моя новая книга, в которой я воспел героев — наших солдат.
— Как она называется?
— Что?
— Да книга.
— «Терновый венец».
— Постараюсь купить.
— Непременно. Ты найдешь в ней объяснение многому: войне, подвигу, самопожертвованию…
— Не сомневаюсь.
— Но мы еще об этом поговорим. Ты куда?
— В сад.
— Тогда до свидания. Приходи непременно.
— До свидания.
Он уходит, а я с завистью смотрю ему вслед.
Широкая улица остается за моей спиной — чистая, светлая, пестрая, с острыми башенками зданий и огненно-красными облаками на западе, где гаснет вечернее солнце. Человеческий поток здесь редеет, растекаясь по аллеям.
Деревья и цветы навевают на меня грусть. Хочется быть среди людей, слышать их шаги, ощущать взгляды, улыбки.
Рядом со мной на скамейку садятся двое пожилых мужчин. Я невольно слышу обрывок их разговора.
— Ну, а потом? Кто же взял подряд?
— Разумеется, барон Гендович. Он и поставил ту гниль, из-за которой померзла наша армия…
— Чудеса! Неужели нет тюрем для таких воров, черт возьми!
— Тюрем? Ха-ха-ха! Он еще орден получит, помяните мое слово.
Я шел сюда с определенной целью, но не достиг ее. Прогулка утомила меня. Назад иду мимо собора Александра Невского по Регентской улице. Не могу я ослушаться генерала — так глубоко въелась в меня военная дисциплина. Генерал! Это непостижимое громоподобное слово повергает в трепет все воинские чины — до ефрейтора включительно. Не имеет значения, что он с трудом подписывается: грамотность — не генеральская добродетель. Не страшны генералы только нам, рядовым, — слишком велика дистанция между нами. Но страх перед начальством — во всей его иерархии — передался и нам. «Генерал прибывает» — это значит, что оживает и вступает в действие весь дисциплинарный устав до последнего параграфа. Это слово обладает магической силой, которой подчиняюсь и я, хотя и возвращаюсь не по улице Аксакова, как приказал генерал, а по Регентской.
В здании университета тишина — вот сейчас оттуда повалит молодежь… и она тоже… Ах нет — я вдруг вспоминаю, что теперь каникулы и университет закрыт… До чего стал несообразителен…
— Эй, не зевай, под автомобиль попадешь! — слышу я окрик городового.
Из ворот дворца медленно выезжает автомобиль с царской особой. Вид мой, должно быть, столь необычен, что царь долго смотрит на меня, и рука его медленно тянется к козырьку. Я тоже козыряю…
Неспешно прогуливаюсь по тротуару под высокими темными акациями.
Мимо движется похоронная процессия; никто не провожает покойника, если не считать взвода солдат, которые следуют за гробом по долгу службы, чтобы произвести залп, когда гроб начнут опускать в могилу.
Низший чин, умерший в каком-нибудь госпитале, — кто знает, из какого он глухого села… Через две-три недели общинный служитель принесет домашним узелок с вещами и небрежно бросит его.