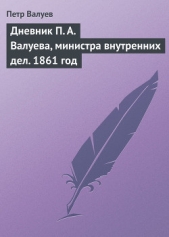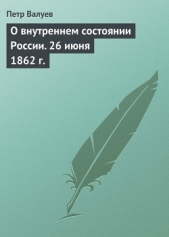Черный бор: Повести, статьи

Черный бор: Повести, статьи читать книгу онлайн
Петр Александрович Валуев (1815–1890), известный государственный деятель середины XIX в., стал писателем уже в последние годы жизни. Первая его повесть — «У Покрова в Лёвшине» сразу привлекла внимание читателей. Наиболее известен роман «Лорин», который восторженно оценил И.А Гончаров, а критик К. Станюкович охарактеризовал как «любопытную исповедь» с ярко выраженной общественно-политической позицией «маститого автора».
«У Покрова в Лёвшине» и «Черный Бор» — лучшее из всего написанного Валуевым. В них присутствует простодушный и истинно русский лиризм. Сочно и живописно описана жизнь провинциальной Москвы и картины усадебной жизни, осложненные мистическими мотивами.
Как религиозный мыслитель П.А Валуев представлен статьями «Религиозные смуты и гонения от V до XVII в.» и «Религия и наука», в которых автор обратился к проблемам богословия и истории церкви.
Произведения графа Валуева впервые приходят к современному читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Завтра мы уезжаем в Белорецк, — сказала Анна Федоровна, — и никогда не забудем вашего любезного соседства и гостеприимства. Степан Петрович решил, что мы в нынешнем году уже не вернемся в Васильевское. Бог знает, когда мы с вами вновь свидимся; но повторяю, что будем вас помнить. Меня особенно тронуло то, что вы и в прошлую ужасную ночь подумали о том, что лично касалось меня. Василиса привезла мне и Вере все, что нам могло быть необходимо, и сказала, что вы даже не забыли о моем виде Дрездена и озаботились передачей его отцу Пимену.
— Нельзя было мне забыть, — отвечал Печерин. — Я помню, что имею от вас поручение в Дрезден.
— Это еще более любезно. Теперь у меня есть до вас просьба. Спешу ее высказать, потому что мы вас, у вас, почти не видим. Мне весьма хотелось бы увидеть часовню. Позвольте нам ее посетить.
— Охотно. Сейчас прикажу позвать настоящего хозяина. У него ключ.
Анна Федоровна и ее дочь с большим любопытством осмотрели часовню. Молитвенник на аналое остался непоказанным, под его парчовым покровом, и вообще, Печерин ничего не передал своим гостям из рассказанного ему Кондратием.
— Странно, — сказала Анна Федоровна, выходя из часовни. — Здесь хранится какая-нибудь тайна, до сих пор никем не раскрытая.
— Если есть тайна, — отвечал Печерин, — ее с собой увез Вальдбах.
— Вера давно желала увидеть часовню, — продолжала Анна Федоровна. — Всякий раз, когда нам случалось проезжать мимо вашего дома, она смотрела на видную через окно лампаду и припоминала, что она четверть века горит одиноко на своем месте, как светящийся признак, что если тайна не раскрыта, то и не забыта. Много таких тайн в окружающем нашу жизнь, и между ними много таких, которым не посвящены горящие лампадки.
Вера ни о чем Кондратия не расспрашивала, но долго смотрела в окно на погост. Она была молчалива, грустна, и Печерин заметил, что она старательно избегала разговора с ним наедине. Так было и утром, на другой день, до самого отъезда Сербиных. Степан Петрович приехал за женой и дочерью. Сходя с лестницы, он шел впереди с Анной Федоровной. Печерин следовал с Верой; улучив минуту спросить ее, чему приписать перемену в обращении с ним, он сказал:
— Вы знаете, что я должен уехать. После вас я здесь не останусь. Когда вас вновь увижу, одному Богу известно. Неужели вы на прощанье мне не захотите сказать доброго слова?
Вера молча взглянула на него, потом тихо ответила:
— Ничего, кроме доброго, я и не могу сказать. Я вас должна благодарить. Я знаю, что вам меня жаль.
— «Жаль! — повторил несколько раз про себя Печерин, когда Сербины уехали. — Жаль! Это ей передала Марья Ивановна. Конечно, без дурного намерения. Она просто проговорилась, желая доказать мои симпатии к ней, но произвела не то действие, на которое рассчитывала. Сердце Веры уязвлено, и я опять без вины виноват…»
Черноборский дом показался Печерину в тот день как будто в первый раз опустелым. Он не находил себе занятия, а мысль, что теперь уже нельзя ехать в Васильевское, еще усиливала ощущение тяготившего его одиночества.
Между тем после бывшей бури погода установилась и приняла обычные грустно-спокойные черты ранней осени. Тихо было в воздухе, и еще тише стало на земле. Поздно вечером Печерин вышел из дома и медленными шагами направился по дороге в Васильевское, до той ясеневой рощи, откуда, за два дня перед тем, становилось видно пламя пожара, потом повернул назад и, дойдя до ограды черноборской церкви, остановился. Небо было ясно; близкий к полнолунию месяц освещал дом и южную сторону церкви и кладбища; кругом лежали те резкие тени, которых не бывает при солнечном свете. Печерину послышались шаги около могилы жены Вальдбаха, и вслед за тем из-за ограды вышли Василиса и Кондратий.
— А! Ты все еще в гостях у меня, Василиса, — сказал ей Печерин, — ты и не торопись возвращаться в опустелое Васильевское.
— Завтра все-таки должна буду вернуться, Борис Алексеевич, — отвечала Василиса, — мне Анна Федоровна кое-что там приказала. Нужно исполнить.
— И я скоро уеду, — продолжал Печерин. — Помни одно: когда соскучишься жить в Васильевском, для тебя всегда будет место в Черном Боре. Кондратию я сказал уж о том. Вас обоих Марья Михайловна на небе помнит. Мое дело — вас здесь, на земле, не забывать.
— Бог да благословит вас за то, что вы покойницу поминаете. Мы и сейчас на ее могиле за вас молились, и слышали, как заколыхались ветви тополя над нами. Должно быть, это она нас услышала и своей речью отозвалась. Покойники, известное дело, только воздухом могут говорить… Я, грешная, уж не отойду от Анны Федоровны и Веры Степановны, пока они меня сами не отпустят. Напрасно только вы, Борис Алексеевич, от нас уезжаете. Мы будем жалеть о вас и Бога молить, чтобы он снова привел вас к нам.
— Что будет, то будет в том Божья воля, — отвечал Печерин…
Тяжело живется труженику; порой нет ему досуга призадуматься над своей неволей; но подчас, как ни странно то сказать, нелегко бывает и человеку, осчастливленному золотым даром свободы. К нему имеет даже более широкий доступ та непрошеная, нежданная, упорная гостья, и имя ей — тоска. Внезапно ее появление, туманны ее черты. Она походит на облако, которое в солнечный день вдруг застилает солнце и на всю природу набрасывает унылую серую тень. Она кладет на грудь невидимую руку и ее захватывает дыхание. Она гонит от вас всякую сколько-нибудь радостную, утешительную мысль, будит одни печальные воспоминания и томит неопределенным ожиданием какого-нибудь бедствия или горя. В такие минуты и часовой маятник как будто медленнее движется, а стучит громче и не дает слуху покоя. Эта самая гостья поджидала Печерина в его кабинете после возвращения с вечерней прогулки. Он еще утром решил спешить отъездом, но сознавал, что ехал неохотно, и был недоволен самим собой потому именно, что это сознавал. По-прежнему он не находил повода к упрекам совести; но между отъездом в Париж и возраставшим влечением к Вере Сербиной было противоречие, остававшееся тем не менее в полной силе.
«Судьба!» — повторял мысленно Печерин. Это слово часто подсказывается человеку в критические минуты жизни и сопровождается восклицательными и вопросительными знаками. На восклицательный отвечает душевное волнение; вопросительный долго остается без ответа.
Прощаясь с Суздальцевым в Липках, Печерин еще более убедился, из дальнейшего разговора с Марьей Ивановной, в справедливости своего предположения насчет сказанного ею Вере; но о смутившем его отзыве Веры он ничего не сказал и только заявил о намерении на этот раз направить свой путь через Белорецк, для свидания со своим поверенным, а перед выездом обещал навестить отца Пимена в Васильевском.
Отец Пимен принадлежал к числу тех сельских священников, которых вся жизнь — непрерывный подвиг терпеливого труда, кротости и смирения. Таких священников у нас более, чем многие думают, и было бы еще больше, если бы не были так тяжелы условия, в которые они слишком часто поставлены. Во время своего учебного образования будущий пастырь душ может легко выносить материальные нужды; он все-таки остается тогда в общении с себе равными и в сфере, соответствующей уровню его образования. С поступлением на место его положение меняется и в умственном отношении часто подходит под понятие об одиночном заключении. Сельская паства стоит на другом уровне, и полезное на нее воздействие требует несравненно большей умелости и большей стойкости характера. Общение с немногими другими прихожанами почти всегда ограничивается совершением треб. Сочувствия и ободрения с этой стороны мало. Скудные средства и недосуг не позволяют искать умственной пищи в уединенном единоличном труде. Оттого в течение времени происходит и постепенно упрочивается раздвоение духовного строя сельских пастырей. В иерейском облачении они еще стоят на твердой почве. Раз это облачение снято, они никакой почвы под собой не чувствуют; они становятся застенчивы, робки во внешних приемах и малоподвижны в области мысли. Но если им встретится человек, с кем, как говорится, можно «отвести душу» и кто окажет сочувственное внимание вне круга молебнов и панихид, то в них легко пробуждается мыслящая отзывчивость. Так было с отцом Пименом. Он довольно часто виделся с Печериным, и приятное впечатление, произведенное при первом свидании, скоро упрочилось. Печерин относился к нему по привычке видеть за границей, как там относятся к лютеранским или латинским духовным лицам, и этот оттенок, весьма редкий у нас, был признательно оценен отцом Пименом. Он часто говорил с Печериным об Анне Федоровне Сербиной и ее дочери, заявляя свою искреннюю им преданность и сожаление о том, что благодаря Степану Петровичу мало с ними виделся. На этот раз пожар и его последствия были поводом к продолжительной беседе о Васильевском и его обитателях. Прощаясь с отцом Пименом, Печерин просил его, если бы случилось что-нибудь такое, что могло бы иметь для них особое значение, написать ему о том в Париж, и отец Пимен обещал эту просьбу свято исполнить.