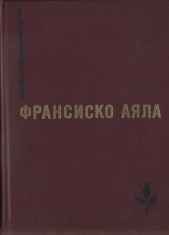Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но у них нет ничего, и они работают, а между делом, где только можно, крадут что ни попадя. Как выразился бы социолог, их поведением еще руководит некий атавистический клановый дух, внушающий им, что совместно добытое должно и потребляться совместно; дух этот, однако, с каждым днем слабеет.
Я же мог чувствовать его еще в полную силу. Чувствовал я, ежась, и силу другого уклада; я был уже сложившейся в основном человеческой особью, когда он взялся за меня и начал перекраивать на свой манер. С невинностью только что родившегося барашка собрал я, например, скошенную на соседнем огороде зеленую кукурузу, когда хозяин-шваб, у которого я жил, обучаясь немецкому языку, послал меня за кормом для скотины. Такая же кукуруза была и в его огороде.
После третьей затрещины я понял, что украл.
— Разве это не господское? — спросил я возмущенно.
Господское или графское, то есть общее, откуда все загребают охапками, прежде чем с бездумной расточительностью браться за свое.
Точно такой же инцидент повторился со мной в гостях у бабушки с дедушкой — я переловил голубей сельского учителя; потом у дяди — меня привел к нему однажды вечером сторож из чужого виноградника; потом на станции Вайта — я вошел в купе вагона вслед за родителями с огромным железнодорожным фонарем. Будучи учеником первого класса гимназии, я пытался увести с сельского пастбища живую козу, чтобы подарить ее даме своего сердца, которая души не чаяла в козах. К моему несчастью, когда я тянул за веревку свой строптивый трофей уже по нейтральной территории, от стада вдруг отделились два козленка и с отчаянным блеянием поскакали за матерью. Мало-помалу я просвещался.
Рост материального благосостояния нашей семьи может вызвать больше нареканий в нравственном отношении, чем обогащение любой вошедшей в историю семьи или семьи, поднявшейся в эпоху паровой машины лишь в силу того, что меньший результат меньше оправдывает, меньше освящает. Мой дед по отцу был пастухом, старшим овчаром. Кто хоть краем уха слышал, что означало это занятие в десятилетия Компромисса [63], тот, я уверен, уже заранее улыбается. Был он старшим овчаром у герцога Эстерхази. Потом — у арендаторов имения.
Какие соглашения на самом деле определяли права и обязанности и этой должности, узнать от него было невозможно ни мне, ни, думаю, самому герцогу. Когда его спрашивали об этом, он пускался в сложные объяснения, часами говорил о спаривании, о первой траве, о промывке шерсти, о ярке, о том, как овцы трясут хвостами, о поголовной вертячке. Под конец иной раз оказывалось, что у него нет ничего своего, что он «нищий батрак», а в другой раз, что, собственно говоря, все овцы принадлежат ему и только по доброте сердечной он загоняет пару-другую во двор замка. В действительности же дело обстояло таким образом, что сверх предусмотренного договором он получал еще некоторый прямой доход от роста поголовья. Первая отара, которую он, будучи еще молодым парнем, принял в хозяйство герцога, со временем приумножалась, и был период, когда под его началом служило пять-шесть подпасков. В иные годы в его отаре насчитывалось пять тысяч голов. Таким состоянием обладал разве только князь эпохи переселения народов.
Сколько овец могло быть у Арпада? К чести деда, скажу, что своей статью, широкой грудью он выражал не имущественную спесь, а величавость вождя племени, гордость свободы. Вот это было время! Из настриженной с отары шерсти он получал определенную долю. Требовалось докладывать, когда ягнились овцы. Для подтверждения падежа сначала нужно было предъявлять овечьи черепа, а позднее и шкуру. А еще позднее господа сообразили, что овец принято и доить, по вкусу пришлась им брынза, которая прежде считалась грубой мужицкой закуской. Мир угрожающе быстро портился.
Но к тому времени у деда уже был виноградник в соседней деревне, дом с участком в уездном городке, сын — в кругу чиновников комитатского управления, другой сын — в корчме, при собственном доме, дочь — в другой собственной корчме, еще одна дочь — за бондарем, третья дочь — за хозяином молотилки, и еще сын, и еще… бог знает, что еще у него было. Был у него даже свой алтарь с выбитым золотыми буквами его именем в церкви одного из ближних сел. Всего этого он достиг только благодаря бабушке, ибо сам был человеком мирным, натурой созерцательной, большим любителем мастерить что-нибудь дома, мурлыча себе под нос; всюду он устраивался с удобством: даже на толстого осла, пока у него был осел, он водрузил подобие кресла и восседал на нем, облокотившись правой рукой о голову животного. Так он ездил, так и проехался по жизни.
Эта ветвь семьи расцвела благодаря бабушке, которую дед называл почему-то мамкой. От нас, детей, он требовал, чтобы мы называли его старым тятей, а бабушку — родительницей — обращения столь нарочито простонародные, что если тогда язык мой и поворачивался произносить их, то теперь перо выводит эти слова с трудом.
Наша бабушка была высокой, почти на полголовы выше деда, смуглой женщиной с энергичным взглядом; родом откуда-то из Верхнего Шомодя, но, разумеется, тоже из пусты, принадлежавшей герцогу. Это она привнесла в нашу семью гренадерский рост и несгибаемую силу воли. Ее отец также был овчаром, но подробностей о нем я никогда не знал. Сама она иногда, правда, очень редко, вспоминала только одного своего деда, некоего Ласло Берчека, который был «богатырь на редкость» и повидал свет; совсем один, без охраны, он ежегодно возил серебряные талеры герцогу в Вену. Из всех моих предков, которых я не видел воочию, этот Берчек представляется мне наиболее ярко. Я воображаю себе его стройную фигуру, смуглое энергичное лицо, слышу его отрывистую речь. Представляю, как он выпрыгивает из седла у какого-нибудь заезжего двора и, поправив оружие, проходит к буфету. Бабушка говорила, что мой старший брат очень похож на него. Берчека зарезали в возрасте двадцати девяти лет 3 октября какого-то года восемнадцатого столетия — в этот день бабушка отмечала его память, как и многих других, постом и молитвами с утра до ночи, так как была чрезвычайно набожна. Нам, детям, тоже приходилось вместе с ней молиться и громко просить всевышнего о спасении души некогда убиенного Берчека, поскольку он без покаяния вошел, как мы надеялись, в чистилище. Такова сила традиций.
Что за женщина была родительница? Как уживалась с дедушкой? Я боялся ее. Лучше всего я запомнил, какие холодные были у бедняжки ноги, когда она лежала в гробу, — мы с двоюродными братьями и сестрами по очереди трогали их, чтобы она не ходила привидением.
Много времени спустя, когда, рассчитав свои дни с минутной точностью, дед проводил их в церковных песнопениях и алкогольном дурмане, он остановился как-то перед давильней и после долгого молчания медленно, с большими паузами, выжал из себя ответ на вопрос, вероятно, заданный ему лет пятьдесят назад:
— Предлагали мне девушку и из Дюлая, и из Пулы, одна уж и платок мне отдала. «Дочь овчара, как раз по тебе, Янош», — говорили. А я все-таки не согласился, потому как работник вроде меня не должен идти зятем в чужой дом — там он только портянкой тестя станет, — а должен иметь над головой свою крышу. Мог бы я жениться и на ком-нибудь покрасивше и побогаче Нанчи, да ведь она в девках могла пройти целый день пешком, чтобы только принести мне смену белья. Ни разу не пожалел я, что взял ее, — добавил он, внезапно вскинув голову, и уставился на меня мутными глазами.
К тому времени прошло уже десять лет после смерти бабушки. Тогда-то и услышал я впервые ее имя, и это простое имя вдруг превратило ее в живой образ — крепкую девушку с твердым характером и честолюбивую молодицу, неутомимую, бережливую хозяйку, которая была в семье головой.
На чем она экономила? Недавно мне в руки попал один трудовой договор деда, в котором указывалось, что за верную тридцатилетнюю службу его годовое жалованье повышается с пятидесяти до семидесяти форинтов.
Свою религиозность, далеко превосходящую простую набожность, бабушка привила и мужу, и детям. Она наверняка ни за что на свете не смогла бы пойти против своей совести. Не было такого соблазна, который побудил бы ее протянуть руку к чужому. Если она и протягивала к чему-либо руку, то могла делать это только со спокойной совестью, без сознания греховности своего поступка. Они с дедом жили в добром полудне езды от нас, на третьей пусте; после каждого посещения мы возвращались от них с богатыми подарками, потому и ездили к ним часто. Однако живого или резаного барана мы погружали в задок телеги и прикрывали сверху сеном в большой тайне уже при выезде из пусты. Боялись управляющего или старшего пастуха? Нет. Поступали мы так только из-за бабушки, душа которой не вынесла бы, если бы что-то с ее ведома было увезено из пусты. А вот в границах пусты — там она все, совсем как императрица, считала своим.