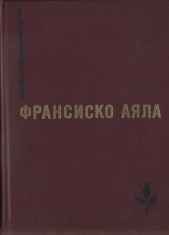Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У кого уж нигде не было почвы под ногами, тот прибивался к какой-нибудь деревне по месту жительства или месту могилы отца или деда. Для привязанности к какому-либо одному определенному месту у пустайцев не было, да и не могло быть никакой почвы. Хозяева поместий, владевшие обычно несколькими пустами, в конце года, а то и среди года могли перемещать работников по своему усмотрению с места на место. Кто служил, например, семье Эстерхази, мог, пока был в милости у господ, считать своим домом пусту в комитате Толна либо в комитатах Шопрон или Шомодь — всюду, где были имения Эстерхази. У жителя пусты, если хотели узнать, откуда он, спрашивали, не где он живет и тем более не где он родился, а у кого он служит. Наша семья служила главным образом у Аппони, потом у Зичи, Вурмов, Штрассеров, Кёнигов и их родственников, поскольку землевладельцы-родственники охотно менялись работниками: толкового коровника обменивали на статного кучера для выездов или ловкого коновала, а иной раз работников даже дарили, что в глазах последних считалось как поощрение. Так вот и мы кочевали с места на место, иногда со всем своим скарбом, разборными закутами, курами и коровой; иной раз отправлялись в путь, чтобы только навестить родичей, тетку или свояченицу, которые после пяти-шести лет совместной жизни вдруг оторвались от нас. Иногда приходилось ехать целую ночь да еще полдня. Но всегда мы ехали на какую-нибудь пусту и всюду чувствовали себя как дома. Дом, в котором я родился, не принадлежал моему отцу, но в родном краю я получил бесподобное наследство: половину комитата я могу считать своим.
Там, где к струящейся из Балатона речке Шио присоединяется с севера другая — Шарвиз, но они не сливаются, а на протяжении целого комитата текут рядом в двух-трех километрах друг от друга, почти рука об руку, кокетливо переглядываясь, словно увлеченные мечтой влюбленные, — там я у себя дома, это мой мир. У двух рек одна долина, огромная, плодородная, широкая, можно сказать, двуспальное семейное ложе. По обеим сторонам красуются неглубокие долы и пологие холмы — панорама, словно написанная кистью на стене тоже мирного и гостеприимного жилища. Выше Шаррет, ниже Шаркёз — названия почти всех деревень здесь начинаются с «Шар» [54] — это и есть мой край. А позади, буквально на расстоянии вытянутой руки, родной Степной край, где, «приняв облик юности, мечтательно бродит» — бродила в течение всей жизни душа Вёрёшмарти «со скромной повязкой на светлых волосах». Если наши конопляники расположены на земле Шаррета, то наши хлевы на пригорке за домом находятся уже в Велдшеге.
Быть может, нескромно захватывать под свой родной край столько земли: ведь Шарбогард, например, находится на севере, в комитате Фейер, а Шарпилиш — уже в комитате Толна, на юге. Но я с радостью беру это на себя. Я со своим родным краем в таком же положении, как бедный король со своей страной. Собственной земли у него ни пяди, зато важничает и печется он о своей стране так, будто она вся его. Судьба уже самим местом моего рождения предопределила, что мне придется делить себя и свою любовь. По официальным документам я родился в Шарсентлёринце.
К своему удивлению и великой радости, я открыл это как-то в конце учебного года среди сведений, содержащихся в моем школьном табеле. И преисполнился большей гордостью, чем за костяные четки, полученные в награду за успехи в учебе. Шарсентлёринц я увидел впервые в жизни, когда пришел туда пешком, на собственных ногах, а на самом же деле родился в Фёльшёрацэгреше. В разное время наша пуста тянулась то к одной из ближних деревень, то к другой и до сей поры не решила еще, которую предпочесть. Таким образом, своих новорожденных она дарит то одной деревне, то другой. Так случилось, что местом рождения моей матери, появившейся на свет в том же доме, что и я, считается Палфа. Последний пункт, куда доставлялась почта, — Шимонторня, ближайшая железнодорожная станция — Вайта. Признаться, я рад этой пестроте и был бы счастлив, если когда-нибудь эти деревни вместо длящейся вот уже несколько столетий непостижимой поножовщины, первопричину которой, вероятно, следует искать еще в Азии, затеяли бы из-за меня благородный спор, как некогда семь греческих городов из-за Гомера. Кроме вышеназванных, заявку на участие в таком состязании могли бы сделать еще Кайдач, Бикач, Узд-Борьяд, Цеце, Озора, Кишсёкёй и Надьсёкей… Ну а Силашбалхаш тем более.
Фёльшёрацэгреш еще и древние римляне… Впрочем, не буду рассказывать его историю. О прошлом пусты батракам известны лишь перетолки. Были здесь турки, память о которых сохранилась так, будто они исчезли отсюда только в начале прошлого столетия. За ними следовали, предавая все огню и мечу, сербы. Живы кое-какие воспоминания и о куруцах [55]. От Габсбургов не осталось ни малейшего следа. Затем вместо заправских господ, словно растворившихся в воздухе, хозяйничали здесь будто и бетяры [56], вроде доброго капитана Банди Патко. Потом пришли графы, потом евреи-арендаторы. Вот и вся история здешних мест. В одном из отдаленных концов пусты, так называемом «вонючем углу», на берегу Шио, в развалинах храма эпохи Арпадов было устроено стойло для полуденного отдыха скота. Здесь же находили старинные кубки и золотые монеты времен татарского нашествия. Вполне возможно, что некогда Рацэгреш, как и все пусты Задунайского края, был цветущим селеньем. Ныне это милая, теплая ладошка, окруженная холмами, защищенными от ветров и бурь, где растет даже инжир и откуда слышатся визг поросят и ребятишек, мычание волов и окрики приказчиков. Это все, чем она дает о себе знать внешнему миру. Увидеть же ее не сможет даже путник, который следует из Шимонторни в Шарсентлёринц, барахтаясь в море песка по уездной дороге между высокими гледичиями, совсем рядом, вернее, над самой пустой. Снаружи она почти герметически, словно кастрюля крышкой, прикрыта густой листвой. От шоссейной дороги к пусте спускается крутая узкая дорога.
Взбегая время от времени по этой узкой крутой дороге, познавал я землю: свою родину, Европу. Проходящее вверху шоссе представляло для меня уже чуждый мир, опасный и запретный. Раза два в неделю проезжали по этой дороге цыгане, крестьяне на ярмарку или свадебный поезд. Далеко по ту сторону дороги синеет графский лес, перед ним раскинулось коровье пастбище. Как там, на лугу, суслики высовывали из нор свои чуткие мордочки, а те, что посмелее, приподнимались на задних лапках, чтобы видеть подальше, так и я осторожно выбирался из своего надежного и уютного укрытия. С любопытством обнюхивал, осматривал окрестности, стремясь все дальше, — таким живет в моей памяти то время.
Графское имение да пять-шесть деревень. Ныне, вспоминая о них, я вижу, что уже тогда судьба окружила мою колыбель всем тем, что мне предстояло выучить на всю жизнь по истории Венгрии. Я ласкал взглядом поблескивающие из-за холмов и лесов колокольни, словно любимые игрушки, перебирал в своем воображении притаившиеся под ними пусты и деревни, по одной открывая их для себя. Каждая представлялась мне новым, особым миром, книгой сказок с удивительными персонажами, обычаями и легендами; они, как хорошие учебники, развлекая, учили меня этнографии, отечественной истории, венгерскому синтаксису, обществоведению и еще многому такому, о чем в школе пусты и не упоминалось. Сейчас, мысленно возвращаясь к этой школе под открытым небом, вижу, что, по существу, и ныне сдаю письменные экзамены по тем знаниям, которые вобрал в себя там.
Во время поисков пропавшего телка, распространявшихся иной раз на две-три деревни, во время именин, свадьбы пли похорон дальних родственников, в поездках с отцом, которого посылали иногда и на шестую пусту, а позднее движимый уже просто тягой к бродяжничеству, я по частям познавал свой край как плоть свою, как собственную ладонь. Познал ли я его? Что узнал тогда? Живописные склоны холмов, необозримые сплошные пшеничные нивы; высокие, как лес, кукурузные поля, из которых не выбраться часами; ракитники и тальники курящихся туманом рек да несколько разбросанных деревень, которые я поначалу из осторожности обходил, подобно полевым птицам и животным, с кем я чувствовал себя в большем родстве, чем с людьми. Но холмы, леса и поросшие пышной зеленью речные долины так и остались в природе, не укоренились у меня в сердце, а если даже и жили во мне, то еще безмолвствовали. По-настоящему я узнал их лишь после того, как послушал, а потом прочитал о них разные истории. Подобно фотопластинкам, опущенным в проявитель, прояснялись, оттенялись и прорабатывались в моей душе эти пейзажи под волнующим воздействием поразительного подвига какого-нибудь овчара, легенды о бетярах или исторического факта. А началось это так.