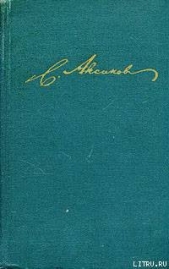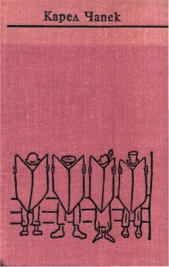Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания

Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда он касался последнего излюбленного им вопроса о различии происхождения северных и южных русинов или вообще какого-нибудь спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор прежнего редактора «Вестника Европы». Он мысленно видел перед собою своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. Он терпеть не мог никаких мифов в истории и начинал лекции русской истории с Владимира, предупредив нас, что он не станет повторять басен, которые мы слышали в школе, например об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, о змее, ужалившей Олега, о кожаных деньгах, – особенно о кожаных деньгах. Как теперь помню его подлинные слова: «Как мог Карамзин, человек с необыкновенным207 умом, допустить, чтобы могли быть в обращении кожаные клочки, не обеспеченные никакой гарантией!» О шкурках кожаных, представлявших будто бы свою собственную ценность, он и слышать не хотел,
Он отвергал также подлинность «Слова о полку Игоревом», считая его позднейшей подделкой, кажется XIV века, о чем однажды вошел в горячий спор с Пушкиным, которого привез на лекцию министр Уваров.
Здесь я сделаю небольшое отступление по поводу этого приснопамятного мне – конечно, и всем тогдашним студентам – посещения великого поэта, тогда уже в апогее его славы.
Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование.
Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни – и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России – передо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы.
«Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам и указывая на Давыдова, – а вот и самое искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, – это для вас интересно», – пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение – видеть и слышать нашего кумира. Я не припомню подробностей их состязания, – помню208 только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.
С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся – это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами.
Обращаюсь к Каченовскому.
Он отвергал участие всяких сентиментов в изучении истории, а разнимал ее холодной критикой, как анатомическим ножом труп. Места священным, патриотическим чувствам – в науке для него не было. Все подобные спорные вопросы он, говорю, разбирал с некоторым раздражением в лице, в голосе. Обыкновенно же он читал медленно, вяло – и, пожалуй, если не вслушиваться глубоко в его речь, то и скучно. Точно как старый дядька нехотя мямлит в сотый раз сказку детям, чтоб усыпить их. Некоторые и засыпали или по крайней мере дремали под его однообразный, монотонный говор.
Но все, следившие за непрерывной нитью его исторических рассказов, слушали с глубоким интересом этот тонкий анализ, в котором сам профессор никогда не приходил к синтезу. Последний возникал у слушателя сам собою, по окончании лекции или лекций. Он принесет с собой несколько каких-то листков, клочков пергамента, книгу, летопись какую-нибудь. Начнет с подробности, мелочи и около нее опытной, твердой рукой начертит узор события, подтвердит или опровергнет принятые гипотезы и осветит209 эпоху со всех сторон. Однажды принес, например, книгу с рисунками абраксасов, печатей новгородских посадников, и при этом объяснил способы управления их.
И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как в бездну, сквозь свои критические очки. Мы слушали, записывали: это и было программою его лекций, без которой мы не знали бы, что делать на экзамене, потому что он лекций не давал. Да тогда почти и никто не давал их, по крайней мере в словесном факультете.
О литографированных лекциях и помину не было. Это – новейшее баловство, которое, конечно, имеет свою хорошую сторону в том, что сберегает много времени, избавляя слушателей от скучного труда переписывать, хотя… переписка эта служила в то же время и повторением лекций.
Мы должны были записывать изустную речь профессора, и этот трудный процесс приносил нам массу добра. Стенографии не было, ловить каждое слово и записывать нельзя, следовательно надо было схватывать общий смысл каждого периода и сжато излагать на бумаге. Легко понять, как такая умственная гимнастика должна была изощрять соображение, развязывать ум и перо! Нет, слава богу, что у нас не было литографированных лекций! С этой стороны, могу сказать, у нас было лучше.
В юридическом факультете, напротив, почти все профессора сообщали перечни своих лекций, а иные читали прямо по известным источникам. От этого там случались такие примеры, что иногда кончавшие курс юристы плохо владели пером.
Между тем в новое время кто-то (едва ли не Писарев) горько упрекал профессоров, что его долго томили над упражнениями переводов иностранных или древних авторов. Полноте! да не этим ли упражнениям обязаны молодые писатели и, между прочим, тот же Писарев бойкостью, живостью, правильностью и свободой речи!