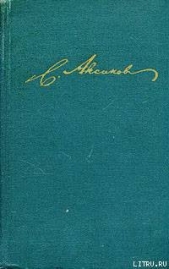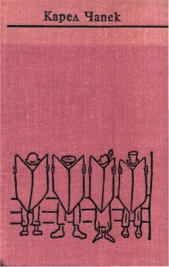Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания

Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не пройти, учась в университете, через эти классические ворота было нельзя: связь древнего мира с новым поддерживалась этим дряхлым мостиком, но это только относительно лингвистики. Чуткие умы проникали в глубину древности – в ее историю, дух и нравы – и помимо профессоров, и даже классиков в оригиналах. Они читали известные переводы на французский, немецкий, английский и отчасти русский языки и создавали себе более или менее определенный образ отжившего мира, иногда, может быть, живее, и пожалуй – и ближе к правде, нежели те, которые корпели над преодолением трудностей умершей грамоты.
«Ах, господа, вы не можете себе представить, как велико наслаждение читать древних классиков в оригинале!» – сказал однажды нам адъюнкт греческого языка на первом курсе, Оболенский, не встречая, вероятно, в нас слишком живого стремления к этому «наслаждению».
Но в чем состояло наслаждение – он не объяснил. Мне тогда показалось, что он преувеличил или хотел нас пришпорить. Но рецепт был слабый. Ведь главного наслаждения чтения – то есть образа и подобия живой речи, живых людей – нет более. Читая французские, немецкие и английские книги, мы как будто слушаем и видим живого француза, немца и англичанина, ловим звуки, интонацию, словом – нам говорит живой человек. Мы сличаем говор с печатным словом, чуем живой дух и всегда в состоянии сделать надлежащую аналогию. По-латыни и по-гречески этого нет.
Подозревать неискренность «наслаждения» этого почтенного адъюнкта или кого бы то ни было я не хочу: я только думаю, что знатоки древних языков наслаждаются201 не тем, чем наслаждаются все, читая писателя живых языков. Тут входит, я думаю, больше тщеславия: «это очень трудно, немногие владеют знанием древних языков, а мы вот одолели и владеем ими свободно».
Это своего рода «наслаждение» и по другим предметам нередко встречается в людях, начиная с гоголевского Петрушки до… многих из нас.
Я вовсе не отвергаю относительной полезности изучения древних языков – такой ереси я проповедывать не хочу. Пусть желающие учатся им до самых корней, пусть «наслаждаются» преодолеванием филологических трудностей и даже пусть тщеславятся этим: скорее уже этим, чем тем, например, что взлезают на Мон-Блан. Я только – как почти и все общество – против принудительного изучения этих языков в ущерб другим знаниям, иногда даже и знанию своего отечественного языка.
Но, кажется, этот вопрос, если еще не решился, то решается уже в желательном для большинства смысле – и ломать копья против подавляющего натиска классицизма не приходится. Скорее, может быть, при известной способности, в борьбе за что-нибудь, вдаваться в крайности, приходится – в споре с решительными противниками классицизма – кое-что отстаивать в пользу последнего.
Крайние противники хотят сжечь мосты и разорвать всякую связь с минувшим. Нередко слышишь какое-то озлобление против всего древнего и прошлого. «Расстались с древностию, и она нам более не нужна. Новое время принесло новые всходы и плоды. Новое знание ушло от старого на неизмеримое расстояние и не имеет никакой связи с минувшим! Это значит напрасно тратить время и затруднять умы пустяками, пренебрегая новым, нужным» и т. д.
Это слышится нередко в обществе и читается в печати
1.
Между тем минувшее напоминает о себе на каждом шагу – уже одною терминологиею во всех отраслях знания, открытиях, а особенно, например, романские наречия, кроме более или менее отдаленной связи в корнесловии, кишат древними словами.
Странно интеллигентному человеку, претендующему на202 высшее и полное образование, для которого открыта грамота новых иностранных литератур, пользоваться слепо этой грамотой, не зная ее происхождения и корней.
Это не татарский след, который оставили монголы, например, в нашем языке: от этих и подобных им вторжений остались одни звуки языка и более ничего. А древние языки внесли вместе и след своей цивилизации. Поэтому умеренные борцы по классическому вопросу (в том числе и я) никогда не подадут голоса за совершенную отмену латинского и греческого языков в отношении лингвистики.
Продолжаю свои воспоминания.
Наконец все трудности преодолены: мы вступили в университет, облекшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье
1.
Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора, адъюнкты – заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например – француз Куртенер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого – Оболенский. Они много помогли нам хорошо приготовиться к слушанию лекций высшего курса и, кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам, сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века – П. В. Победоносцев.
Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочими тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он не долго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним.
Тут была еще замечательная личность – Бодянский, впоследствии известный профессор славянских наречий.203 Курс или класс наш был какою-то беспечною, веселою толпою юношей, собиравшихся как будто только повидаться и изучать не науки, а друг друга, потому что все, что проходили, мы более или менее знали.
Мы легко справились с переходным экзаменом и на второй год весело перешли на следующий курс, из маленькой аудитории в большую, окнами на обширный двор и улицу. Там мы застали человек пятьдесят опередивших нас целым годом товарищей, не переведенных, по случаю холеры, на третий курс. Нас всего было, помнится, человек восемьдесят.
Перед нами были Герцен и Белинский в университете, но когда мы перешли на второй курс – их уже не было. Там были, между прочим, Станкевич, Константин Аксаков, Сергей Строев (впоследствии писавший статьи под псевдонимом Скромненко) и перешедший с нами из первого курса Бодянский.