Красная гостиница
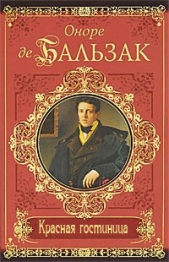
Красная гостиница читать книгу онлайн
Из книги : "-О-о! Тогда бы он был веселее,- ответила она и, грациозно покачав головкой, добавила: - Если такой человек когда-нибудь разорится, об этом надо будет протрубить по всему свету! У него в одни только поместья вложен целый миллион. Это бывший поставщик императорских армий, довольно оригинальный старик. Он женился вторым браком по расчету, и, представьте, его жена живет с ним очень счастливо. У него хорошенькая дочка, которую он долго не желал признавать. Но после смерти сына, к несчастью убитого на дуэли, он смирился и взял ее к себе, так как уже больше не может иметь детей. И вот девушка-бесприданница стала одной из самых богатых в Париже невест. Но этого славного человека, потерявшего единственного сына, гложет тоска, и порою он не может ее скрыть. ..."
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вам хочется пить, господин Тайфер? — спросил хозяин дома, заметив, что поставщик машинально взялся за графин.
Графин уже был пуст.
После краткой паузы, вызванной этим замечанием банкира, г-н Герман продолжал рассказ:
— Утром Проспера Маньяна разбудил какой-то сильный шум. Ему почудились дикие пронзительные крики, и все нервы его затрепетали, как это бывает, когда, пробуждаясь, мы еще не освободились от тяжких ощущений, владевших нами во сне. И нас происходит тогда особое физиологическое явление встряска, выражаясь языком грубым, явление еще недостаточно изученное, хотя в нем содержатся феномены, любопытные для науки. Это страшное чувство смертной тоски, вызванной, быть может, мгновенным воссоединением двух начал человеческой натуры, почти всегда разъединенных во время сна, обычно бывает мимолетным, но у бедняги подлекаря оно затянулось и обратилось в беспредельный ужас, когда он увидел лужу крови между своим тюфяком и кроватью Вальгенфера. Голова несчастного немца валялась на полу, а тело вытянулось на постели. Вся кровь его вылилась из обрубка шеи. Увидев недвижные открытые глаза, увидев пятна крови на своих простынях и даже у себя на руках, заметив на своей постели скальпель, Проспер лишился чувств и упал на пол, в лужу крови. «Это было карой за мои мысли», — говорил он мне. Когда сознание вернулось к нему, он увидел, что сидит в общей зале. Вокруг его стула стояли французские солдаты, а перед ним сгрудилась внимательная, любопытная толпа. Он тупо взглянул на офицера, который допрашивал свидетелей и, очевидно, составлял протокол. Он узнал трактирщика, его жену, двух судовщиков, служанку гостиницы. Хирургический нож, которым воспользовался убийца…
Господин Тайфер кашлянул, вынул из кармана платок, отер лоб, высморкался. Никто, кроме меня, не заметил этих вполне естественных мелочей, — все глаз не сводили с рассказчика и с жадным вниманием слушали его. Поставщик облокотился на стол и пристально посмотрел на г-на Германа. В дальнейшем он уже не выказывал ни малейшего волнения или любопытства, но лицо его все время оставалось землистым и задумчивым, как в ту минуту, когда он играл хрустальной пробкой от графина.
— …Хирургический нож, которым воспользовался убийца, находился на столе вместе со шкатулкой, бумажником и документами Проспера. Люди, теснившиеся в комнате, смотрели то на эти вещественные доказательства преступления, то на самого Проспера, а он, казалось, был при смерти и ничего не различал угасшим своим взором. Неясный шум, доносившийся с улицы, свидетельствовал о том, что перед гостиницей собралась толпа, которую привлекла весть о преступлений и, вероятно, также желание посмотреть на убийцу. Шаги часовых под окнами общей залы и позвякивание их ружей выделялись на фоне глухого говора собравшегося народа, но гостиница была заперта, в опустевшем дворе царила тишина. Проспер Маньян потупился, не в силах выдержать взгляда офицера, составлявшего протокол, но вдруг почувствовал, что кто-то сжал его руку, и тогда он поднял глаза, чтоб посмотреть, кто же стал его покровителем перед всей этой враждебной толпой. По мундиру он узнал, что около него — старший хирург полубригады, размещенной в Андернахе. Но взгляд этого человека был так пронзителен, так суров, что несчастный юноша весь задрожал и голова его запрокинулась на спинку стула. Солдат дал ему понюхать крепкого уксуса, и он пришел в чувство. Однако его глаза казались такими безжизненными, такими безумными, что врач, пощупав его пульс, сказал офицеру:
— Капитан, сейчас невозможно допрашивать этого человека…
— Ну-ка, уведите его! — крикнул капитан, прервав врача и обращаясь к капралу, стоявшему позади Проспера.
— Трус проклятый! — вполголоса сказал ему капрал. — Постарайся хоть пройти твердым шагом мимо этих окаянных немцев. Не позорь Республику!
Слова эти как будто пробудили Проспера Маньяна, у него хватило сил подняться, сделать несколько шагов, но, когда отворилась дверь и на него пахнуло ветром, когда ринулась к нему толпа, он вдруг вновь ослабел, ноги у него подкосились, и он покачнулся.
— Уж за одну только трусость надо расстрелять этого поганца лекаришку! Иди ты! — говорили два солдата, поддерживая его под руки.
— А-а! Вот он, негодяй! Негодяй! Вот он! Вот он!
Восклицания эти как будто издавало одно огромное существо, в голосе которого сливались все голоса толпы, следовавшей за Проспером и разраставшейся с каждым шагом. Всю дорогу, от гостиницы до тюрьмы, топот провожающих и конвоиров, гул разговоров, лазурь небес, рокот Рейна, свежесть воздуха, картина Андернаха вызывали в душе Проспера неясные, смутные, тусклые впечатления, как и все, что окружало его с той минуты, как он пробудился. Порой ему казалось, что он уже больше не существует…
— …Как раз в это время я находился в тюремном заключении, — заметил г-н Герман, оборвав нить рассказа. — Я был тогда энтузиастом, какими все мы бываем в двадцать лет: решив защищать родину, я командовал вольной дружиной, которую сам же и собрал в окрестностях Андернаха. За несколько дней до этого убийства мы натолкнулись на французский отряд в восемьсот штыков, а нас было человек двести, не больше. Мои лазутчики предали нас. Меня бросили в андернахскую тюрьму, хотели даже расстрелять для острастки всему нашему краю. Французы говорили также, что нужно применить репрессии, но убийство, которое они хотели выместить на мне, совершено было не во владениях курфюрста. Мой отец добился отсрочки казни на три дня, чтобы съездить к генералу Ожеро, и испросил у него помилование. И вот я видел, как привели в андернахскую тюрьму Проспера Маньяна, и с первого же взгляда почувствовал к нему глубокую жалость. Хотя он был бледен, в растерзанной одежде и перепачкан кровью, в его лице было что-то простодушное, чистое, и это поразило меня. Длинными белокурыми волосами и голубыми глазами он напоминал сыновей порабощенной Германии. Я видел в нем печальный образ моей родины, он казался мне жертвой, а не убийцей. Когда его проводили под моим окном, он улыбнулся какой-то горькой и грустной улыбкой, словно сумасшедший в минутном проблеске рассудка. Конечно, убийца не мог бы так улыбаться. Когда зашел ко мне тюремный сторож, я стал расспрашивать его о новом заключенном.
— Что ж, — ответил он, — заперли в камеру, и с тех пор все молчит. Сидит, обхватив голову руками, — может, дремлет, может, думает о своем деле. Французы говорят, что завтра утром рассчитаются с ним на суде, а через двадцать четыре часа расстреляют.
Под вечер все то время, которое отводилось мне для короткой прогулки, я простоял под окном нового заключенного. Мы беседовали с ним, он чистосердечно рассказал мне все, что приключилось с ним, и довольно толково ответил на все мои вопросы. И после этого первого разговора я уже не сомневался в его невиновности. Я выпросил разрешение посетить его в этот день. Итак, мы виделись несколько раз, и бедный мальчик бесхитростно посвятил меня во все свои мысли. Он считал себя и невиновным и, одновременно, преступником. Вспоминая чудовищное искушение, побороть которое у него хватило сил, он все же опасался, что мог встать во сне, в состоянии лунатизма, и совершить то преступленье, какое замышлял наяву.
— А ваш спутник? — намекнул я.
— О-о! — с жаром воскликнул он. — Вильгельм неспособен…
Он даже не договорил. И ответ на эти горячие слова, полные юной чистоты, я пожал ему руку.
— …Должно быть, Вильгельм так испугался, когда проснулся, что потерял голову и убежал.
— Не разбудив вас! — заметил я. — Но вам легко будет защищаться, если баул с деньгами Вальгенфера не украден.
Вдруг он заплакал.
— Нет, я не виновен, не виновен! — воскликнул он. — Я не убил. Я вспомнил, какой сон мне снился: я играл в горелки с товарищами во дворе коллежа. Нет, я не мог отсечь голову этому человеку, раз я видел во сне, что играю в горелки.
Но потом опять, несмотря на проблески надежды, порою возвращавшей ему немного спокойствия, его все время мучили угрызения совести. Ведь он все же занес руку, хотел перерезать горло спящему человеку. Он строго осуждал себя, он не мог считать свое сердце чистым после того, как мысленно совершил преступление.






















