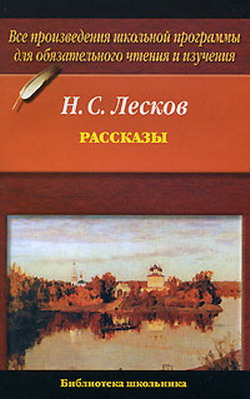Библиотека моего дяди

Библиотека моего дяди читать книгу онлайн
Три части повести, объединенные образом дядюшки Тома, это по существу три этапа развития главного героя: детство, юность, молодость. На каждом из них он проходит через серьезное сердечное увлечение…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вслед за этим г-н Ратен вышел, запер дверь и унес с собой ключ.
Искреннее признание в своей вине принесло мне облегчение; уход г-на Ратена избавил меня от чувства стыда, так что первые минуты моего плена очень походили на счастливое освобождение, и если бы не обязанность размышлять в продолжение двух дней о моих проступках, я бы воспрянул духом, как это обычно бывает после крутых поворотов судьбы.
Итак я начал размышлять, но ни одна мысль не приходила мне в голову. Как ни пытался я глубже осознать свою вину, я не находил в ней ничего страшного, кроме лжи, которую я, впрочем, искупил признанием, приятным мне тем, что оно вырвалось непроизвольно. Все же для порядка, я старался раскаяться, но, видя, как это трудно дается, я начал опасаться, не стало ли мое сердце поистине дурным, – безнравственным, как говорил г-н Ратен; и с сокрушением душевным я вознамерился с этого же дня бороться с беспричинным смехом.
В это время по улице прошел пирожник. Он всегда появлялся в этот час. Мне естественно пришла мысль полакомиться пирожками; но совесть не позволяла мне поддаться плотскому соблазну, когда мне велено было размышлять о душе. Продавец напрасно ожидал, взывая ко мне во все горло: я сидел в глубине комнаты, не двигаясь с места.
Но те, кто наблюдал нравы и обычаи продавцов пирожков, знают, как цепко они держатся за своих покупателей. Видя, что я не показываюсь, мой продавец не сделал из этого для себя прискорбных выводов; напротив, он продолжал громко кричать, полный непоколебимой веры в мое чревоугодие. Он лишь прибавил к слову «пирожки» волнующий эпитет «горяченькие», который подверг мою нравственность серьезной опасности. К счастью, я спохватился и призвал себя к порядку.
Я подумал, однако, что не следует оставлять в заблуждении честного труженика и отнимать у него драгоценное время. Я подошел к окну, чтобы сообщить ему, что сегодня не возьму пирожков. «Поскорее, – сказал он, – я спешу…»
Я уже говорил, что он верил в меня больше, чем я в самого себя.
«Нет, – отвечал я, – у меня нет денег.
– Поверю в долг.
– Да я и не голоден.
– Неправда!
– Я очень занят.
– Ну, живее!
– Ко всему еще я сижу взаперти.
– Ах, вы мне надоели», – сказал он и приподнял свою корзину, словно собираясь уходить.
Этот жест произвел на меня неотразимое впечатление. «Подождите!»· – закричал я.
Через несколько мгновений в шапке, искусно привязанной к веревочке, поднимались вверх два пирожка… совсем «горяченькие».
«Ну и дурак этот жук! – думал я, жуя пирожок. – Имеет четыре крыла, чтобы летать, и падает в чернильницу. Если бы не его непостижимая глупость, я бы спокойно делал уроки, хорошо бы вел себя, г-н Ратен был бы доволен, и я тоже; не надо было бы лгать, меня не заперли бы на ключ… Дурак этот жук!»
Ба! да ведь эта мысль недурна! Я нашел козла отпущения, свалил на него все свои грехи, и мало-помалу моя совесть вновь обрела блаженный покой. Этому, как я полагаю, способствовало и то, что г-н Ратен в крайнем пылу негодования совершенно забыл задать мне уроки. Два дня и ни единого урока!… Из всех возможных наказаний я бы, вероятно, выбрал именно это, как самое восхитительное.
Примирившись со своей совестью и имея в запасе два праздничных дня, я задумал привести в порядок свою комнату, для чего предпринял кое-какие меры, которые мне очень понравились. Первым делом я убрал с глаз долой Эльзевир, словарь, учебники и тетради. Проделав все это, я ощутил не только приятное, но и совершенно новое для себя чувство: с меня точно сняли оковы. Итак, я должен был попасть в заключение, чтобы впервые познать всю прелесть свободы.
Как это было чудесно! Иметь законное право спать, бездельничать, мечтать… И это в том возрасте, когда собственное общество так сладко, когда в сердце неумолчно звучат пленительные речи, а ум так легко находит наслаждения, когда воздух, небо, поля, стены – все о чем-то говорит, все чем-то волнует, когда дерево акации представляется целым миром, а майский жук – сокровищем. Ах, почему я не могу вернуть ту счастливую пору, не могу вновь пережить волшебные часы! Как тускло светит сейчас солнце! Как медленно тянется время, как безрадостен досуг!
Эта мысль беспрестанно возникает у меня под пером. Всякий раз, как я начинаю писать, она торопит меня выпустить ее на волю. Я это делал множество раз, делаю и сейчас. Хотя счастье сопутствует мне и каждый год приносит мне радости, хотя дни мои безмятежны и ясны, ничто не может изгладить из моего сердца память о прошлом. Чем старее я становлюсь, тем моложе становятся мои воспоминания, и тем больше я в них нахожу печальной услады. В настоящем я владею гораздо большим, чем желал в те времена; но я тоскую по возрасту, когда мы полны желаний. Реальные блага не кажутся мне столь заманчивыми, как те воздушные замки, что сияли мне в заоблачной дали, всегда опьяняя меня. Свежее майское утро, голубое небо, тихое озеро, – вы и сейчас еще предо мною, но… куда девался ваш блеск, что сталось с вашей чистотой? Где ваша неизъяснимая прелесть, полная радости, тайн и надежд? Вы ласкаете мой взор, но уже не трогаете душу; я холоден к вашему веселому зову; чтобы так нежно любить вас, как прежде надо возвратить невозвратимое прошлое, повернуть время вспять. Какое грустное и горькое чувство!
Это чувство мы находим во всех творениях поэзии, и не оно ли является их главным источником? Нет поэта, которого вдохновляло бы настоящее; все они обращают свои взоры к прошлому. Более того: разочарованные в жизни, они влюбляются в прошлое, видят в нем прелесть, которой не находят в действительности. Свои сожаления они преображают в красоту и наделяют ею свои воспоминания. Так, создавая по своему произволу прекрасный призрачный мир, поэты оплакивают то, чего никогда не имели.
Собственно, юность – это возраст, когда поэзия копит свои сокровища. Но этот возраст, вопреки мнению иных, еще не знает, что с ними делать. Юность ничего не может извлечь из груды чистого золота, которое громоздится вокруг нее. Но вот приходит время, и оно понемногу уносит это золото с собой; юность, вступая в бой за свое достояние, начинает понимать, чем она обладала. По потерям она судит о былом своем богатстве, по сожалениям – об утраченных радостях. Тогда-то и полнится сердце, воспламеняется воображение, освобожденная мысль воспаряет ввысь… Тогда-то и поет Вергилий!
Но что сказать о безбородых поэтах, что поют в таком возрасте, когда они – даже если они и настоящие поэты – еще не успели раскрыть себя, еще не научились чувствовать и упиваться в тиши благоуханием, которое лишь позднее смогли бы разлить в своих стихах!
Бывают рано созревшие математики, примером тому служит Паскаль [21]. Но поэтов таких не бывает. Скорее можно представить себе Гомера шестидесятилетним старцем, чем Лафонтена – дитятей [22]. До двадцатилетнего возраста еще могут проявиться вспышки таланта; но ни раньше, ни чуть позже ни один гениальный поэт не достигал своей вершины. Многие, однако, расправляют свои крылья значительно раньше; но когда крылья слабы, падение неизбежно. Начав прежде времени свой полет, эти поэты скоро падают на землю. Газеты, кружки, группировки, это ваше дело! [23] Поднимайте же их!
Лафонтен не знал самого себя до позднего возраста, быть может, даже до конца своих дней. Не в этом ли был его секрет? Прочитайте, прошу вас, его предисловия! Приходило ли ему в голову, что он отличается от всех остальных? И тут дело не в скромности: для скромности у него не хватало тщеславия. Это была натура бесхитростная и наивная, само простодушие! Он пел для своего удовольствия, а не затем, чтобы выполнить долг или достигнуть какой-нибудь цели; он пел, и поэзия струилась из его уст.
Вы знаете, как он был неразумен. Он воображал, будто Федр его учитель [24]; он забывал воздавать хвалу Людовику Великому; [25] сам того не сознавая, он задевал самолюбие маркизов, и его обходили пенсиями. Воистину он был простак по сравнению со столькими хитроумными поэтами!