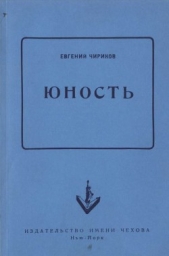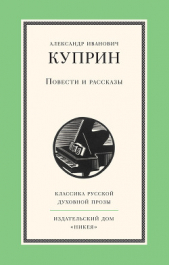Отчий дом. Семейная хроника
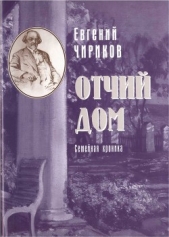
Отчий дом. Семейная хроника читать книгу онлайн
В хронике-эпопее писателя Русского зарубежья Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932) представлена масштабная панорама предреволюционной России, показана борьба элит и революционных фанатиков за власть, приведшая страну к катастрофе. Распад государства всегда начинается с неблагополучия в семье — в отчем доме (этой миниатюрной модели государства), что писатель и показал на примере аристократов, князей Кудышевых.
В России книга публикуется впервые. Приведены уникальные архивные фотоматериалы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Антон Чехов начал писать «сумеречные рассказы» и «скучные истории» [203] и не находил одобрения в «Русском богатстве», которое читалось в Никудышевке.
Здесь по-прежнему оставались верны как «Русскому богатству», так и «Русским ведомостям» [204], как в Замураеве — «Русскому вестнику» и «Московским ведомостям» [205]. Заветные книги двух главных лагерей во всей России [206], а в том числе и среди Симбирского столбового дворянства.
Храм народничества был разрушен. Но «храм разрушенный — все ж храм [207], кумир поверженный — все ж бог».
Уже не было священного алтаря, на котором так недавно еще свершались обильные жертвоприношения, но «отцы» продолжали по инерции молиться старым богам и держались за старую веру, яростно борясь с разраставшейся «толстовской ересью», как некогда боролся простой народ с никонианством [208]. Хотя толстовская ересь и оставила в кумирах по-прежнему «мужика», но облекла его в новые ризы: народники почитали его природным социалистом, от рождения предназначенным к устройству земного рая во всей подлунной, а толстовцы открыли в нем специального и исключительного носителя и хранителя «Божьей правды», что внушало «отцам» опасение за судьбу революции, ибо какая же революция, когда проповедуется непротивление злу насилием? Какая же революция бывает без насилия? И какой русский интеллигент, спросим, перефразируя Гоголя, не любит быстрой революции?
Не успели «отцы» искоренить эту чисто домашнюю ересь, как появилась новая, еще более опасная, заграничная. Эта новая отодвигала революцию на задний план вместе с возлюбленным мужиком, предлагая самим пойти на выучку к капитализму Западной Европы, а мужика-дурака выварить в фабричном котле [209]. Когда, спрашивается, их вываришь, восемьдесят миллионов-то дураков?.. На место спихнутого с пьедестала мужика новая ересь ставила рабочего: вот кому молитесь! Вот кто — прирожденный социалист! И что казалось отцам особенно возмутительным, новая ересь утверждалась скрывшимися за границей бывшими же народниками [210], рекомендовавшими русской интеллигенции бросить толчение воды в ступе: мужика, либералов, террор, — и заняться созданием по примеру Германии своей социал-демократической партии.
Егорушка Алякринский привез в Никудышевку из Казани номер органа заграничных еретиков, названный «Освобождением труда» [211].
Таким путем впервые в Никудышевке узнали, что бродившие среди провинциальной передовой интеллигенции слухи о какой-то «новой вере» среди студенческой молодежи имеют свое основание…
Конечно, в Никудышевке, когда туда заезжали друзья освежиться умными разговорами, новая ересь была поднята на штыки логики и здравого смысла.
— Идиоты! У нас сто миллионов мужиков, а фабричных рабочих — горсточка.
— Да и котлов фабричных два-три да и обчелся, где же будем вываривать-то?
— И что значит — пойти на выучку к капитализму? Искусственно создавать голоштанный пролетариат? Обезземеливать крестьянство в пользу Тыркиных и Ананькиных?.. Извините, Ваня! Из песни, как говорится, слова не выкинешь, — спохватился Павел Николаевич, увидя широкую улыбку на лице добродушного Вани Ананькина.
— Я ничего… Валяйте! Брань на вороту не виснет…
— Я не хотел обидеть вашего батюшку… Я, так сказать, символически…
— На то и щука в море, чтобы карась не дремал, — произнес Ваня безобидно и весело, возбудив хохот окружающих.
Разговор шел в библиотечной комнате, куда собрались и «свои», и заезжие гости перед обедом. Земский врач Сергей Васильевич Миляев, заматеревший в народничестве лохматый очкастый интеллигент лет под сорок, принял новую веру за личное оскорбление, и злость, и раздражение мешали ему говорить, а голос срывался на высоких истерических нотках:
— Значит, все насмарку?! Все жертвы, весь тернистый путь? Дайте мне в руки эту паршивую газетку! Не за границей она выпущена, а департаментом полиции! Я… я не могу поверить… допустить… У нас не Германия! У нас надо сперва добиться парламента и признания политических партий… Ведь… ведь это подслуживанье капиталистам только на руку правительству!
— Ничего не понимаю… Или я от старости отупел, или… — говорил бывший мировой посредник [212], шестидесятник Иван Степанович Алякринский и, покосившись на сына как на источник этой непонятной новости, подозрительно спросил: — Да ты сам-то, Егор, как? Не спутался с этими дураками?
Егорушка уклонился от прямого ответа:
— Я просто интересуюсь… как очень многие…
— Да неужто можно этому поверить и…
— Есть такие, которые соглашаются… разделяют… надо во что-то верить…
— Но послушай, Егор! Если бросить веру в свой народ, то что же остается?
— В самого себя! — вставил весело Ваня Ананькин, и снова все засмеялись.
— Идем обедать… Дайте руку!
Зиночка улыбнулась Ване, и тот сделал руку кренделем.
— Господа! Бросьте толочь воду в ступе! Обедать зовут! — крикнул Ваня, уводя из библиотеки свою повелительницу.
Все гурьбой потянулись на веранду, а Егорушка с Елевферием остались и продолжали говорить о новой вере. Егорушка получил в наследие от отцов любовь к народу и жажду подвига, но безвременье томило его, ибо некуда было эту любовь расходовать и нечем утолить жажду. Хотелось найти точку приложения, а ее не было. Елевферий горячился:
— Боже мой! Господи помилуй! Как нечего делать? На каждом нашем шагу требуется и любовь, и подвиг… А вы теперь врач, будете служить народу. Кроме веры в Бога никакой другой веры не требуется. Все вот такие веры не от Бога, а от дьявола: не в Град Незримый тащат народ, а к Антихристу. В Богато верите?
— Хочется верить, но… сомнения есть… — сконфуженно произнес Егорушка.
— Верьте в Бога и в Божественную революцию! А все прочее бесовщина. Достоевского «Бесов» читали? [213]
Егорушка окончательно сконфузился. Кое-что читал, но вообще-то мало интересовался Достоевским: этот великий писатель почитался среди передовой интеллигенции вредным, ретроградным, его называли за «Бесов» «пасквилянтом» [214], и не принято было читать его.
— «Бесов»? Говорят, это пасквиль на наших революционеров…
— Плюньте тому в морду, кто вам сказал это! А что касается народа и интеллигенции, так вот вам схема моего сочинения…
Пришла девка и кликнула: «Обедать велели!»
— Ну, потом поговорим… Берегитесь стада бесовского!..
За обедом Елевферий опять заговорил о «Бесах» Достоевского, и начался спор: одни называли Достоевского писателем гениальным, другие — вредным ретроградом, третьи — пасквилянтом, оболгавшим всех передовых людей. Защищали немногие: тетя Маша с мужем (они всегда и во всем были согласны друг с другом), Елевферий, Зиночка и Ваня Ананькин. Остальные злобно нападали, кроме Сашеньки, которая слушала и молчала. Особенную злобу проявляли Павел Николаевич и земский врач Миляев:
— У него сплошной сумасшедший дом даже в лучших романах! У него самый лучший, положительный тип — идиот! Чем читать Достоевского, лучше побывать в клинике душевнобольных. Это, конечно, имеет свой интерес, особенно для нас, медиков, но при чем тут изящная литература?
— Он психолог! — упрямилась тетя Маша.
— Отлично. Пусть будет психолог, а вернее — психиатр. Но, во-первых, литература — не клиника для душевнобольных, а во-вторых, всякий психиатр, проживший долго со своими больными, сам делается сумасшедшим, и во всяком случае не ему делать оценку крупных и сложных общественных явлений политического характера. Типы свихнувшихся людей — неподходящий аршин для их оценки…