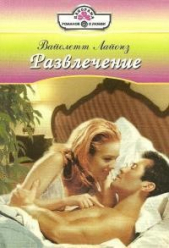Жизнь Арсеньева

Жизнь Арсеньева читать книгу онлайн
Роман «Жизнь Арсеньева» написана великим русским писателем на чужбине, написан памятью сердца о самом сокровенном. Мало кому из писателей удавалось достичь плотности текста, такой изобразительной силы и одухотворенности, какими отличается эта книга. Почему сегодня мы вновь предлагаем читателю роман И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева»? Потому, что эта книга о главном – о родине и о любви. А точнее – о торжестве любви над забвением. Сегодня стоит перечитать эту замечательную книгу, чтобы еще раз осмыслить слова ееавтора: «Жизнь , может быть, дается нам единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется с ней: она отнимает от него имя – он пишет его на кресте, на камне, она хочет тьмой покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его в слове».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее! Как изнемогала душа от восторженно-самоотверженной нежности к ней! Как хотелось жить долго, долго! Часто я думал, слушая: «Если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее! Как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью!» Но насчет того, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя: – Надя! – кричала она Авиловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. – Надя, послушай, что он здесь несет! – И буду нести! – восклицал я. – Три четверти каждой из этих сонат – пошлость, гам, кавардак! Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи одно из самых ненавистных мне слов! Хуже газетного «чреватый»!
Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями, – все это приводило меня просто в содрогание. А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках! Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: «Ты взойдешь, моя заря», мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак!
В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в «Записках сумасшедшего», и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно-небритым бабьим лицом, долго, мучительно-долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом:
«Се-го-дня-шнего дня …» Вот, на другой день, он еще великолепнее притворяется Любимом Торцовым, а на третий – сизоносым, засаленным Мармеладовым:
«А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» – Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо – вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии по бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фартучке: «Немедленно отправьте это с посыльным!»– Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой, до трех часов ночи, и я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского … – Но, допустим, вы правы, – кричит она, уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная, – почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его! – Потому, – кричу я в ответ, – что за одно то, как актер произносит слово «аромат» – «а-ро-мат!» – я готов задушить его!
И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал: – Если б ты знала, сколько у меня врагов! – Каких? Где? – спросила она. – Всяких, всюду: в гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале… – Кто же эти враги? – Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал «Не всякая плоть такая же плот, но иная плоть у человеков, иная у скотов…» Некоторые просто страшны! На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Волховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с икр в блестящих крепко выпуклых голенищах: ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе! – Как тебе не совестно! – сказала она с брезгливым сожалением. – Неужели ты, правда, такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей!
IX
И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственна часть ее, а под вешалкой – милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, – просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним «собственные телеграммы», чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных беллетристов, а сам слушал, ждал – и вот наконец: быстрые шаги, шелест юбки! Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Так же забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем, она, смеясь, увертывалась, – «пусти, я по делу пришла!» – звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему…
Я однажды нечаянно услыхал ее разговор с Авиловой, – они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая что я в типографии. Авилова спрашивала: – Лика, милая, но что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась… Но дальше-то что?
Я точно в пропасть полетел. Как, я «очень мил», не более! Она всего-навсего только «увлеклась»! Ответ был еще ужаснее: – Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода …
При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, – как вдруг она опять заговорила: – Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его! А потом, ты его все-таки не знаешь, – он в тысячу раз лучше, чем кажется…
Да, я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние; однако, легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, подкрахмаленные складки которой расклеивались, разрывались с восхитительным треском! Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность! Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты, – нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались – стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидать пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчичьи санки…