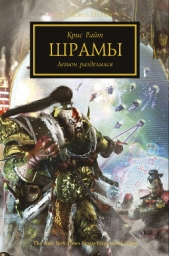Обретенное время

Обретенное время читать книгу онлайн
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да и что, собственно, может стоить эта опись наблюдений, ведь только за мелочами, отмечаемыми ею, кроется действительность (величественность в далеком шуме аэроплана, в силуэте колокольни Св. Илария, прошлое во вкусе мадлен и т. п.), и пока мы ее не высвободим, они ничего не значат.
Постепенно сохраненная памятью цепочка неточных выражений, в которой ничего не осталось от реально пережитого, начинает воздействовать на нашу мысль, жизнь и действительность; эту-то ложь и воссоздает так называемое «реалистичное» искусство, простоватое, как жизнь, — бессмысленный, лишенный красоты повтор того, что видели глаза, подметил ум, такой пустой и скучный, что поневоле спрашиваешь себя, где же автор, предавшийся этому занятию, нашел радостную моторную искру, пустившую в ход, продвинувшую его дело. Величие настоящего искусства — это не дилетантская игра, как говорил г-н де Норпуа, это обретение, воссоздание и познание реальности, — несхожей с той, в которой мы живем, и из которой мы все более и более устраняемся, когда наше условное, подменяющее ее познание становится медлительней, герметичней, — реальности, которую мы можем так и не узнать до смерти, реальности, которая и есть наша жизнь. Настоящая жизнь, в конце концов открытая и проясненная, следовательно, единственно реально прожитая жизнь — это литература. В определенном смысле, эта жизнь постоянна, она присуща всем людям, равно художнику. Однако она не видна им, потому что они не пытаются ее прояснить. И их прошлое завалено бесчисленными повторами, по-прежнему бесполезными, потому что их не «разъяснил» разум. Это наша жизнь — но также и жизнь других; ибо стиль для писателя, подобно цвету для живописца, дело не столько техники, сколь видения. Стиль — это откровение (оно невозможно прямыми и осознанными средствами) о качественной разнице в том, как проявляется мир, и она осталась бы вечным секретом каждого человека, если бы не существовало искусства. Только благодаря искусству мы можем выйти за свои границы, узнать, что видели в мире другие люди, — в мире несхожем, картины которого так и остались бы для нас неведомы, как лунные пейзажи. Благодаря искусству вместо одного мира мы видим множество, и сколько было самобытных художников, столько в нашем распоряжении миров, разнящихся между собой еще сильней, чем миры, летящие по вселенной, и много веков спустя после того, как затух источник, откуда они изошли, будь то Рембрандт или Вермеер, они еще светят нам своими неповторимыми лучами.
Работа художника, то есть попытка усмотреть за материей, за опытом, за словами нечто иное, противоположна тому труду, который ежесекундно на протяжении жизни, стоит отвлечься от себя, проделывает себялюбие, страсть, интеллект и привычка, накапливая поверх подлинных впечатлений, тем самым полностью перекрывая их, номенклатуру и практические устремления, ошибочно сочтенные нами жизнью. В целом, только это запутанное искусство и можно назвать живым. Только оно сможет проявить для других и показать нам самим внутреннюю жизнь, «наблюдению» не поддающуюся, — ее видимые проявления подлежат переводу, а зачастую и чтению в обратном порядке, трудоемкой расшифровке. И тогда работа, проделанная самолюбием, страстью, подражательным духом, абстрактным интеллектом, привычками, будет уничтожена искусством, пустившимся в обратный путь, вернувшимся к глубинам, где погребена неведомая нам реальность, — искусство заставит нас найти ее. Какой соблазн — воссоздать подлинную жизнь, освежить впечатления! Но это требует отваги самого разного рода, даже отваги чувственной. Прежде всего, надо расправиться с иллюзиями, которыми мы дорожим больше всего, оставить веру в объективность сотворенного собственными силами, и вместо того, чтобы сотый раз баюкать себя словами «Как она была мила», прочесть наперекор: «Поцеловав ее, я получил удовольствие». Конечно, то, что я испытал в часы любви, испытывают все люди. И это так, но чувства подобны негативам, они кажутся черными, пока мы не поднесем их к лампе, — то есть, нам нужно смотреть их наизнанку; чувство неведомо нам, пока мы не довели его до ума. Только тогда, когда разум разъяснил его, интеллектуализовал, мы, хотя и с большим трудом, сможем различить облик прочувствованного. И я понял, что страдание, испытанное мною впервые с Жильбертой, оттого, что наша любовь не разделена внушившим ее существом, благотворно. По крайней мере, как метод (ибо наша жизнь слишком коротка, и только в муках, словно возмутившись вечными и изменчивыми колебаниями, наши мысли открывают — как во время бури высокое окно, откуда мы охватываем шторм взором — всю эту упорядоченную законами необъятность, тогда как с другого места мы ее не разглядели бы; ее не увидеть в блаженном покое, может быть, только величайшие гении могут рассчитывать на это волнение постоянно, только они обойдутся без скорбных потрясений; но не обязательно, что широкая и размеренная поступь их радостных произведений свидетельствует о счастливой жизни, — вполне возможно, что напротив, их жизнь полнилась скорбями). Дело в том, что если мы любили не только какую-нибудь Жильберту (а она принесла нам столько страданий), то это не оттого, что мы любили еще и какую-то Альбертину; любовь — это частица души, более длительная, чем разнообразные «я», умиравшие одно за другим со своим эгоистическим желанием сохранить это чувство; эта частица, сколько бы зла (зла, впрочем, полезного) она не принесла нам, должна отъединиться от конкретных существ, чтобы восполнить целое и вернуть любовь, понимание этой любви — миру, универсальному духу, а не той или иной, с которыми нам хотелось слиться.
Мне придется заново отыскивать смысл и малейших знаков (Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Блок и т. д.), потому что привычки отняла его у меня. Ибо, соприкоснувшись с действительностью, чтобы выразить ее, сохранить, мы должны устранить все наносное, с возрастающей скоростью привносимое привычкой. Прежде всего я отбросил бы слова, произносимые скорее губами, чем разумом, все эти шуточки, остроты, всплывшие за разговором, которые мы еще долго потом повторяем себе, — машинальные фразочки, переполняющие сознание ложью; они вызовут у писателя, унизившегося до их записи, легкую улыбку, гримаску, и так испортят, в частности, фразу Сент-Бева; тогда как настоящие книги должны быть детьми не блистательных раутов и болтовни, но темноты и молчания. И так как искусство в точности воссоздает жизнь, вокруг этих истин, которые мы постигли внутри, всегда будет разлита поэзия и радость волшебства, но это — только следы пересеченного нами сумрака и работающий столь же точно, как альтиметр, показатель глубины произведения. (Эта глубина никоим образом не связана с определенной тематикой, как возомнили материалистически духовные романисты; они не могут заглянуть по ту сторону явлений, и все их благородные намерения, подобно добродетельным тирадам, привычным у людей, неспособных на мало-мальски добрый поступок, не мешают нам заметить, что силы их духа не хватило и на то, чтобы избавиться от расхожих недостатков формы, приобретаемых имитацией).
Что касается истин, добытых интеллектом, даже у самых высоких умов, в просветах [158] залитого солнцем простора, их ценность может быть и высока, но контуры их и суше, и площе, и они не глубоки, потому что для того, чтобы достичь их, не были пересечены глубины; потому что эти истины не были воссозданы. Часто писатели, по наступлении определенного возраста, когда их больше не посещают волшебные откровения, пишут только силами рассудка, и последний набирает все большую мощь; потому-то их зрелые книги сильней, чем книги молодости, — но в них нет уже того бархата.
Однако мне было ясно, что истинами, извлеченными разумом из самой действительности, не должно пренебрегать, потому что они могли бы украсить впечатления, сообщенные нам вневременной эссенцией, общей ощущениям прошлого и настоящего, веществом хотя и не таким чистым, но все же проникнутым духом; впечатления драгоценней, но слишком редки, чтобы произведение искусства могло быть составлено только ими. Я чувствовал, как они бегут ко мне толпами, готовые к делу — истины о страстях, характерах, нравах. Эти мысли обрадовали меня; однако мне вспомнилось, что лишь одна была открыта в страдании, тогда как остальные — в довольно заурядных наслаждениях.