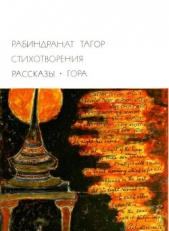О Шамоли!
В срабон, в дождливый месяц,
Твой подведенный черным взор подобен
Раздумью на ресницах молчаливой
Бенгальской девушки.
Твоя земля сегодня
Стихи травы слагает
Зеленой речью
В ответ на дождевую речь небес.
Твой лес оделся в облака листвы,
Взывают к облакам деревья, руки подняв:
«О вы,
Взнуздавшие восточный ветер,
Помедлите, о вы!»
Под придорожным деревом твое жилище,
О Шамоли,
Кочевница, отвергнутая всеми.
Разрушив свой шалаш, ты в беззаботный путь
Выходишь налегке, мгновенно обеднев.
Влюбленного в тебя
Не связываешь ты – пола с полою брачной.
И, выходя из спальни первой ночи,
Он даже не оглянется на дверь.
Я хижину для нас слепил из глины,
С надеждой быть с тобой наедине
За слабой, ненадежного оградой.
В то утро пели птицы.
Они не строят клеток.
Гнездо – что вить, что покидать – легко им.
Весною – здесь, порой дождей – в лесу.
Недавно, на рассвете вместе с ветром
Захлопали в ладоши листья леса.
Сегодня – пляска,
Завтра – в пыль листвой.
Они на то не жалуются даже.
Они – глашатаи в весеннем царстве.
Сегодня – трудятся, а завтра – прочь!
Все эти дни шел разговор с тобою
Лицом к лицу.
С глазу на глаз сегодня ты сказала:
«Пора! Бросай жилье и уходи!»
А я не создал прочных стен.
Я – камнем
Не выложил своей мольбы у входа.
На зыбкой почве хижину поставил,
На оползне, размытом половодьем,
Ее совсем разрушит вскоре месяц
Дождей – срабон.
И я уйду.
День расставания меня не ранит,
И будет петь, хвостом качая, птица дронго
Над хижиной разрушенной моей.
О Шамоли! Одну и ту же песню
Выводит твоя флейта,
Что в первый, что в последний день,
Один за другим погасают на сцене огни.
Зала – как сон, чьи видения стерлись;
Пусто, темно. Знак подала тишина
Строгим перстом. Спокойна душа; и наряд мой,
Перед началом спектакля казавшийся сутью
Образа, в зале пустом бессмысленным стал.
Красками, блестками, всяческой мишурою
Приукрашал я себя, толпе угождая.
Сразу стерлись они – и меня поразила
Вся полнота невидимой сути моей.
Так очертанья земли при скончании дня
Смутно сливаются в час погребенья заката,
И открывается небо, прозрачное небо
В звездном сиянье, собою самим изумленное.
В тот день, когда из недр исчезновенья
Мое сознанье вырвалось, я бурей
Был поражен, очнулся в дымном пекле
У кратера вулкана. Ревом, свистом
Он оскорблял несчастный род людской.
Гром, жар и смрад… Самоубийство века!
Век прокаженный! Пьяный бред бесстыдства,
А рядом скряга-робость прижимает
Скарб осторожности к иссохшей груди.
Вдруг заревет – и тут же тихим визгом
Уже спешит покорность изъявить.
Хозяева могучих государств
По кабинетам издают приказы
Сквозь зубы, нехотя. А птицы зла
Слетаются с прибрежий Вайтарани [104],
Железных крыльев рев терзает небо.
Упиться кровью жаждут. О судья,
Кому престолом вечность, дай мне сил,
Чтоб молниями слов сразить я смог
Женоубийц, детоубийц – и пусть
Навек мое проклятье бьется в пульсе
Самих себя стыдящихся преданий,
Когда наш век, ничтожный пленник страха,
Испустит дух, задохшись под золою
От своего же смертного костра.
Все припев старинной песни помнят и поныне:
«Справа – Ганга, слева – Ганга, отмель – посредине».
Движет всем Владыка танца: в вечном обновленье -
Водопад имен, обрядов, песен, поколений.
Те, что в юности вдохнули правду этих слов,-
Были созданы иначе, из других основ.
Каждый знал – его светильник по волнам плывет,
Приносил дары богине у священных вод.
Робость тусклая царила в думах и в сердцах.
Смерть пугала, жизнь пугала, мучил вечный страх.
То владыки самодурство, то врагов набег,
Ожидал землетрясений робкий человек.
И к реке ходить опасно темною тропой -
Где-то воры притаились, грех, беда, разбой.
Сказки слушали, где много самых дивных дел,-
Как от гнева злой богини праведник сгорел…
Из пустых семейных распрей в деревнях тогда
Вырастала, распаляясь, грозная вражда.
И плелась коварных козней и обманов сеть,
Чтобы сильному быстрее слабых одолеть.
Побежденный изгонялся, после долгих ссор,
И другие забирали дом его и двор.
Кроме бога, кто поможет, защитит в беде?
И прибежища иного не было нигде.
Мысли робкие бессильны. Человек притих…
И хозяйка опускала взоры при чужих.
Черным очи обводила, а на лбу – пятно,
Зажигать пора светильник,- в комнате томно.
Молит землю, небо, воды: «Защитите нас!»
Ждет напасти неизбежной каждый день и час.
Чтоб дитя в живых осталось, нужно колдовство:
Кровью жертвенных животных мажет лоб его.
Осторожная походка, боязливый взгляд,-
Как узнать, откуда беды ей теперь грозят?
Ночью грабят на дорогах и в лесах густых,
И грозят ее семейству козни духов злых.
Всюду видит преступлений и грехов печать
И от ужаса не может головы поднять…
Долетает чей-то голос, мрак тревожа синий:
«Справа – Ганга, слева – Ганга, отмель – посредине».
А река плескалась так же, льнула к берегам…
Как светильники, скользили звезды по волнам.
И купцов теснились лодки около базара,
И во мгле рассветной весел слышались удары.
В мире тихо и спокойно, но заря близка,-
Розовея, озарялся парус рыбака.
На закате все стихало, словно обессилев,
Только трепет доносился журавлиных крыльев.
День прошел, гребцы устали, ужинать пора.
У опушки – темный берег и огонь костра.
Тишину успокоенья лишь порой шакал
Где-то в зарослях прибрежных воем нарушал.
Но и это все исчезло, мир земной покинув.
Не осталось грозных судей, стражей, властелинов.
Одряхлевшие ученья давят грузом тяжким.
В дальний путь теперь не едут с буйволом в упряжке.
Неизбежна в книге жизни новая страница,-
Всем обычаям и судьбам надо обновиться.
Все исчезнут властелины, грозные владыки,
Но останется таким же плеск реки великой.
Приплывет рыбак на лодке и купец заезжий,-
И такой же будет парус, всплески весел те же.
И такие же деревья будут у реки,-
К ним опять привяжут лодки на ночь рыбаки.
И споют в иных столетьях так же, как и ныне:
«Справа – Ганга, слева – Ганга, отмель – посредине».