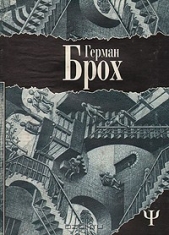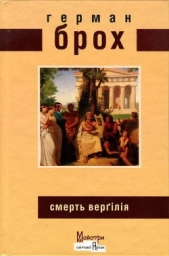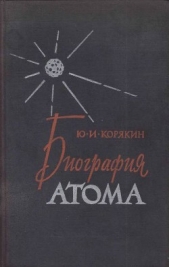Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
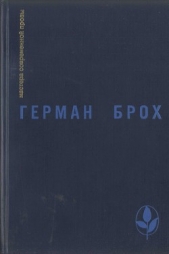
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Et tu Brute! [18] Ты отдаешь меня черни на осмеяние, хотя я пожертвовал тебе свою добротную шляпу. Non libet… [19] Какая неблагодарность!
И вот молодому человеку представился случай выказать свою верность и преданность Цахариасу, и, следуя недавнему указанию последнего, он снял через голову поля шляпы и, приветствуя картинным жестом насмешников, вызвал у них одобрение, осветившее отраженным светом и господина штудиенрата.
Но что ни говори, а издевка всегда оставляет свои колючки в человеческой душе, которая явилась для нее мишенью, и израненная душа Цахариаса не представляла собою исключения. Не успели они выйти за пределы сферы действия вражеского юмора, как штудиенрат снова остановился и произнес:
— Я глубоко возмущен, и мне стыдно за этих людей.
— Но бог мой, — добродушно заметил молодой человек, — кто тяжело работает, имеет иногда право на потеху.
Штудиенрат рассердился:
— Я покажу им, как потешаться… потешаться над другими людьми… И это называется братство!
— Нет, свобода и равенство.
— Ах, вот чем это пахнет! Свобода и равенство! Нет, нет, дурачество!
И, по-прежнему сердитый, он сделал несколько шагов.
Но нужное слово было уже сказано, и вот он, штудиенрат Цахариас, приступил к своей четвертой речи, которая, собственно говоря, должна была представлять собою резюме грех предыдущих — очевидно, потому, что ему казалось важным сделать на их основе социальные выводы, подсказанные неприятным происшествием.
— Дурачество остается дурачеством… Я, друг рабочего класса, я, социал-демократ, я, один из ведущих членов профессионального союза учителей, не постесняюсь это утверждать. Да, дурачество остается дурачеством. Эти люди, уже давно вышедшие из юношеского возраста, вели себя по-дурацки. А то, что эта дурацкая безответственность была направлена лично против меня, я готов упомянуть лишь, так сказать, в виде подстрочного примечания. Главная же беда таится в этой ужасающей безответственности. Да, ужасающей, поистине ужасающей для каждого, кто следит за развитием нашего народа. Как же, спросим мы, может этот народ претендовать на роль учителя человечества, если его важнейшей частью, каковою должен считаться рабочий класс, правит дух такой безответственности? Сделаем еще один шаг на этом пути и спросим, можно ли не считать безответственным профессиональный союз, который, борясь за повышение заработной платы, требует за это лишь одного вознаграждения голосования за социалистов? Panem et circenses! [20] Разумеется, тем людям этого было бы достаточно. Они желают только иметь свой хлеб и свою потеху да спать со своими бабами. Такая свобода и такое равенство им по нутру. Но где же та бесконечность, которой они, как и все немцы, должны служить? Где истинная демократия, основанная на бесконечно величественном презрении к смерти? Они ищут расслабленности, а не закалки, ищут уюта, глядя на смерть незрячими глазами, чтобы прозябать в посюстороннем мире, и от этого они как раз прониклись страхом перед смертью и утратили немецкую сущность, став теперь легкой добычей для вырождающихся западных демократий и их учений, стремящихся при каждой возможности преодолеть отвращение не с помощью дисциплины и готовности к смерти, а путем расслабленности. Так что же, и нам следует отказываться от закалки и тем обрекать себя на провал? Нет, тысячу раз нет! Только целое обретает истинную свободу, а не отдельная личность. Она, употребим краткую формулу, подвластна свободе, высшей свободе, причастна к свободе целого; нигде и никогда она не может, а тем более не имеет права притязать на собственную свободу. С торгашеской свободой нужно покончить раз и навсегда, и как раз профессиональным союзам надлежит проводить в этом смысле необходимую воспитательную работу. Нам нужна спланированная свобода, и именно такая спланированная и целенаправленная свобода должна заменить упрощенную и хаотичную, короче говоря, дурацкую свободу Запада. Вот я стою перед вами, покорный законам самодисциплины, в шляпе без полей, показавшейся им такой смешной; я ношу ее в знак братства, исповедуемого мною, и нет мне дела до насмешки Запада. Равенство перед приказом, равенство перед дисциплиной и самодисциплиной — таково будет наше равенство, и оно будет зависеть от возраста, чина и заслуг каждого гражданина. Таким образом будет возведена хорошо продуманная пирамида, занять вершину которой будет призван самый достойный избранник, суровый и мудрый вождь и наставник, сам покорный дисциплине. Будет призван, дабы обеспечить торжество братства. Да разве может быть иначе? Нет никакого братства без отца, без дедов, без целой галереи предков, и вся эта родословная является залогом единства целого и надежности всех вещей, устраняющей всякие сомнения и колебания. От кары к любви — таков наш путь, и любовь, к которой он ведет, всегда готова к смерти, а значит, и к ее преодолению. В этой любви за пределами отвращения к смерти и вне всяких временных рамок сливаются воедино звероподобность и бесконечность. Таков наш путь, и долг германской демократии — пройти его под девизом самодисциплины, подготовившись таким образом к руководству новым Интернационалом.
Еще до того, как эта речь была закончена, послышались отзвуки грома, и гроза, разразившаяся где-то вдалеке, заслала в город прохладную влагу, которая пропитывала собою застывший воздух, становилась все ощутимей и все более сгущалась. Когда далекое громыхание донеслось до слуха Цахариаса, он пришел чуть ли не в состояние экстаза.
— Вселенная, бесконечная мать вселенная, разгневанная и готовая к каре, согласна со мною… Ты слышишь? Или ты так и не понял, что поставлено на карту?
— Да нет, понял. У немцев будет очень много работы.
— Они не должны от этого уходить и не уйдут.
— Ну а я хочу уйти от грозы… Найдем извозчика. Я довезу тебя до дому и поеду к себе.
— Нет, я хочу идти пешком. Я всегда хожу из школы пешком. Чтобы подышать воздухом. Здесь уже недалеко.
— Но я устал.
— Солдаты должны маршировать. Не ленись! Шире шаг, и тогда ты уйдешь от грозы.
И Цахариас уверенно двинулся вперед.
Они прошли через парк, где было установлено много памятников. Каждая статуя — некоторые из них были в сидячей позе — была окружена живописно расположенными группками кустов, и свет парковых фонарей делал мрамор статуй еще белее, а их бронзу еще более блестящей, чем днем. На дела, прославившие лиц, которые удостоились памятников, указывали обычно отличительные признаки: книга, свиток, шпага, кисть и палитра. Но вот взору путников представились совсем иные предметы. Это были гантели и булавы, льнущие к отлитым, как и они, из бронзы огромным голенищам, из раструбов которых вырастала также сверкавшая бронзой могучая фигура длиннобородого человека. Он стоял, перенеся тяжесть тела на правую ногу, а в недвижном воздухе трепетали его локоны и перья на широкополой шляпе, которую он держал в руке, и, когда оба наших героя приблизились к нему походным маршем, Цахариас скомандовал:
— Отдать почести! Поля шляпы долой!
К такому поведению обязывала надпись на каменном постаменте, которая была выведена затейливыми готическими буквами и которую А. прочитал, приблизившись к памятнику с полями в руке: «Фридрих Людвиг Ян (1778–1852) отец гимнастики, оздоровившей немецкую нацию» [21]. Да, как же тут обойтись без почестей?
— Этот будет стоять и тогда, когда об Эйнштейне никто и знать-то не будет! — расхохотался Цахариас.
Они вышли из парка. Опять вдали гремел гром, и опять молодой человек стал поглядывать по сторонам в поисках извозчика, и опять старший потянул его за рукав:
— Идем, идем, скоро будем дома.
— Я ищу извозчика, ведь кто его знает, найдется ли он потом. Да и не нужен я тебе больше.
— Ошибаешься, и даже очень: теперь-то ты мне и нужен, — сказал Цахариас с наигранным страхом. — Да, теперь ты мне нужен. Инвалиду войны нелегко подняться по лестнице, и моя добрая жена Филиппина будет тебе благодарна, если ты мне поможешь.