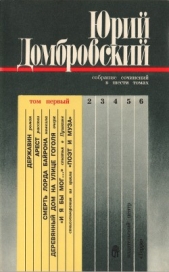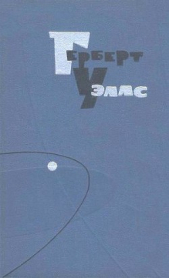Собрание сочинений в шести томах. т.4

Собрание сочинений в шести томах. т.4 читать книгу онлайн
Сочинения Юза Алешковского долгое время, вплоть до середины 90 – х, издавались небольшими тиражами только за рубежом. И это драматично и смешно, как и сама его проза, – ведь она (так же, как произведения Зощенко и Вен. Ерофеева) предназначена скорее для внутреннего употребления . Там, где русской человек будет хохотать или чуть не плакать, американец или европеец лишь снова отметит свою неспособность понять этот загадочный народ . Герои Алешковского – работяги, мудрецы и стихийные философы, постоянно находятся в состоянии локальной войны с абсурдом совковой жизни и всегда выходят из нее победителями. Их причудливые истории, сдобренные раблезианской иронией автора, – части единого монолога – исповеди; это язык улицы и зоны, коммунальных кухонь и совканцелярий, язык и голос, по словам Бродского, русского сознания, криминализированного национальным опытом… издевающегося над самим собой и, значит, не до конца уничтоженного .
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его били и ногами, и руками, и перекрученными простынями, и мокрыми полотенцами. А Розенцвейг, все существо которого еще пронзало случившееся причастье к потрясающей тайне нашей жизни и смерти, не чувствовал боли, не слышал тяжкого дыхания мстителей, потому что все это казалось ему необходимым продолжением только что испытанного потрясения. К тому же он не сразу начал соображать. Когда наконец его, измудоханного и жалкого, отдыхающие бросили на кровать, он тихо плакал, но от радости воспоминания, а не от обиды и боли. Он был страшно рад, что умело прикрывал от ударов свое хозяйство, ибо странное происшествие вмиг избавило его от безразличия к судьбе собственного пола. Воз, вы думаете, зачем я все это вам мелю, бросив разговор о себе и своем несчастье в психушке. Отвечу так: я пишу о том, о чем мне хочется писать, а во-вторых, подобным образом вечно скачут мои мысли, и поэтому именно в такой, непонятной вам последовательности я сейчас сочиняю части своих очередных писем.
Назавтра Розенцвейга, избитого до неузнаваемости, допрашивала приехавшая милиция. Он никого не выдал. Сказал, что подрался с хулиганами из райцентра, но лиц ихних не запомнил, что все до свадьбы заживет и претензий к милиции, нашей партии и предстоящим выборам в Верховный Совет РСФСР он не имеет, в чем и расписался для благополучного закрытия дела. Однопалатники, пораженные благородством и мужеством такой сволочной зануды, как Розенцвейг, а также его склонностью к тайному пороку, устроили в палате мощную, запрещенную правилами режима в домах отдыха пьянку. Пьянку с бабешками, патефоном и всеми делами. Розенцвейг выпил слегка и затосковал по ночной незнакомке. Он ходил по палатам женского корпуса, по столовой, по игровым площадкам, по разным тенистым закуткам и требовательно вглядывался в лица и фигуры отдыхающих дам. Более того, все исключительно дамы не скрывали своего ехидного злорадства, глядя на распухшую от фингалов и без того непривлекательную физиономию Розенцвейга. Выбрав среди многих, по непонятным ему самому приметам, одну бабенку в очках и с книжкой в руках, он подошел и спросил:
– Возможно… извините… это у меня произошло с вами?
– Что «это»? – удивилась бабешка.
– Ночная близость, – после мучительных поисков вежливого выражения сказал Розенцвейг и получил книжкой по башке. Но он продолжал рыскать по зоне отдыха, осатаневая от беспокойного и мощного желания. И наконец он увидел сидевшую на траве под березой и плетущую венок из ромашек и васильков пожилую и полную женщину в оранжевых трико и синем в белый горошек бюстгальтере. Розенцвейг подполз к ней на коленях, ибо он, по понятным вам, надеюсь, причинам, не мог передвигаться в выпрямленном виде, а может быть, и потому, что животная страсть возвращает нас к манерам давнишних времен, когда мы все бегали на четвереньках и не было в нас ничего, кроме аппетита и желания огулять на солнечной поляночке даму… Розенцвейг подполз к ней, долго смотрел в ее потонувшие в лиловых подушечках щек глазки, сглатывал слюнки и ничего не мог сказать. Бабенка, однако, не захипежила, глядя на безумно и прерывисто дышащего мужчину с покрытым ссадинами и фингалами лицом. Для нее, в ее возрасте и при более чем непривлекательной наружности, ухаживание даже такого рода было лестным и неожиданным. Она прикрыла варикозные вены на ногах сарафанчиком, что ужасно напугало Розенцвейга. И тогда он начал не с начала, а с конца. Он сказал:
– Я на вас потом буду жениться! Да, да, да! – Она молчала, а он продолжал: – Да… да… да… да, – потому что зуб не попадал на зуб, так дрожали челюсти у бедняги на пятьдесят четвертом году жизни от жуткой похоти.
– Вы смешной. Что значит «потом»? – закокетничала дама.
– Потом! – с тупым отчаянием воскликнул Розенцвейг и впился губами в самую близкую точку необъятного тела дамы – в пятку на левой ноге и заплакал при этом, как мальчик. Она погладила его по голове громадной рукою и, высвободив пятку, подтянула Розенцвейга повыше. Теперь он целовал тугие и крепкие, как футбольные мячи, колени и, явно поощренный мощным ответным желанием, не вставая с карачек, потянул ее в кусты. К счастью, дама безрассудно откликнулась на один из редчайших в ее жизни зовов судьбы и тоже на карачках последовала за Розенцвейгом. Правда, из чисто женского инстинкта подстраховки она по инерции жарко говорила:
– Все вы такие… все вы такие, – но в худосочных кустиках сама сдернула с себя оранжевые трико и предстала перед Розенцвейгом во всей своей красе. Не ожидавший никогда в жизни, что его будет трясти от одного только прикосновения к телу женщины, Розенцвейг залез на даму, но не успел продемонстрировать мужских достоинств. Он содрогнулся, забывшись от счастья и восторга момента, в тот же миг лицо дамы и, разумеется, голый зад Розенцвейга, хотя он этого не видел, осветила яркая вспышка, щелкнул фотоаппарат и громыхнул хамский хохот. Однопалатники продолжали мстить своему бывшему преследователю. Хохот их был беззлобный, намерения – тоже.
Розенцвейг, к своему удивлению, не без самодовольства попросил их отвернуться и дать даме одеться.
– Это будет моя жена, – пояснил он.
Мужики отнеслись к его заявлению без хамства. Наоборот, тут же решено было устроить вечером свадьбу в палате. Розенцвейг щедро выложил из заначки (сейф) сто рублей на водку и вино. Свадьба действительно была веселющей – с аккордеоном, песнями, топотом «цыганочки» и «яблочка», с частушками и бурной дракой из-за того, что двое мужиков не могли договориться, кто из них будет пить из банки для цветов, а кто из пепельницы. С посудой в доме отдыха было туго, ибо начальство по зову партии активно включалось в борьбу с алкоголизмом. И когда это начальство в лице затейника попыталось вмешаться в течение свадебного загула, его посадили на койку, вручили миску (оловянная тарелка) с портвейном и напоили до полной усрачки. Это слово я не могу перевести. Затем опять были песни, все орали «Горько!», и Розенцвейг быстро выучился делать неторопливые жениховские засосы (поцелуй). Затем пьяный массовик-затейник вырубил во всем доме отдыха свет и заорал по радио:
– Объявляется вальс «На сопках Маньчжурии»! Дамы приглашают кавалеров в кроватки. После вальса общий пистон (группенсекс). И-рраз-два-три! И-рраз-два-три…
Наши советские люди привыкли следовать призывам. В доме отдыха началось что-то ужасное. Начался повальный блуд под маркой свадьбы Розенцвейга, о чем и сообщила утром дирекции и главврачу группа мужчин и женщин, уклонившихся по различным уважительным причинам от беспардонного совокупления друг с другом.
Розенцвейг, продолжая демонстрировать благородство характера, взял всю вину за пьянку и блуд на себя и свою невесту. Их немедленно выписали досрочно из профсоюзного заведения, написали на работу гневное письмо и вломили счет за побитые пепельницы и разломанную стокилограммовыми телесами невесты кровать. Массовика-затейника уволили с работы. Но Розенцвейг был счастлив. Они тут же подали заявление в загс. Расписались. Муж взял фамилию жены – Иванов, для того лишь, чтобы не помнить своего уродливого прошлого, а не для ассимиляции, ибо даже под фамилиями Бубенчиков или Коровкин он не сумел бы замаскировать своего носа, отвислой губы и пугливых бараньих глаз.
Самое интересное для меня лично в истории Розенцвейга-Иванова было то, что это не Клава, оказывается, лишила его на старости лет невинности, а какая-то другая безумная ночная шалунья, пожелавшая остаться неизвестной.
Да, дорогие, браки поистине совершаются на небесах, и внимание небес распространяется не только на танцплощадки, пляжи, главные улицы городов, купе поездов, музеи и очереди за американскими пластинками, но и на такие жалкие и бедные людские скопища, как советские дома отдыха трудящихся.
Хорошо. Звонит мне однажды Иванов и лепечет, что если я его не упакую и не помогу притырить кое-что из ценного, то он никогда не уедет…
Приходите, говорю. Приходит. И вот – последняя часть его истории, записанная на пленку. Как я жалею, если б вы знали, что не записал рассказа Иванова с самого начала. Как я об этом жалею и рву на себе волосы, что всю жизнь при несомненном внимании и интересе к судьбам людей и смыслу людских историй не заносил в блокнот хоть вкратце самые захватывающие моменты их жизней. Итак -