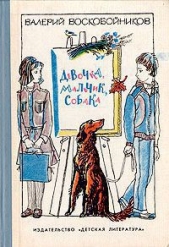Семейство Какстон

Семейство Какстон читать книгу онлайн
«– Мальчик, мистер Какстон, мальчик! – Отец мой погружен был в чтение. Мальчик! повторил он с видимым смущением, подняв глаза. – Что такое мальчик?
При таком вопрос, отец вовсе не думал начинать философического исследования, и требовать у безграмотной женщины, ворвавшейся в его кабинет, решения психологической и физиологической задачи, затрудняющей до сих пор ученых мудрецов: «что такое» – Возьмите первый словарь, и он скажет вам, что мальчик есть дитя мужского пола… т. е. юная мужская отрасль человека. Кто хочет пускаться в исследования и наукообразно узнать, что такое мальчик, должен сперва определить, что такое человек…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И так, мы приехали в Комптн. Прежде мы бывали там единственными гостями. Лорд Ренсфортс не больно любил посещение соседних сквайров, тогда менее воспитанных нежели теперь. То и извиняет леди Эллинор, что она в этом обширном и скучном доме, из мужчин своих лет, видела почти исключительно нас двоих. Как только кончился Лондонский сезон и дом их наполнился, не было уже возможности по-прежнему беспрестанно быть с молодой хозяйкой, непринужденно говорить с ней, отчего прежде мы составляли как бы одно семейство. Важные леди, лучшее общество окружали ее; взгляд, улыбка, мимолетное слово – вот все чего я имел право ожидать. И разговор сделался совсем другой! Прежде, я мог говорить о книгах: я был как дома; Роланд преследовал свои сны, свою рыцарскую любовь к прошедшему, свой дерзкий вызов неизвестному будущему. И Эллинор, просвещенная и романическая, могла сочувствовать обоим. И её отец, ученый и джентльмен, тоже мог сочувствовать. Но теперь…
Глава VII.
В которой мой отец приходит к развязке.
– Живя в свете нет ни какой пользы знать наречия, излагаемые в грамматиках и объясняемые в лексиконах, – сказал отец – если не выучишься языку светскому. Это особенный язык, Кидти! – воскликнул он, разгорячившись. – Это анаглифы, чистые анаглифы, мой друг! Если бы ты и знала по пальцам Египетские иероглифы, а анаглифы были бы тебе неизвестны, ты все таки ничего бы не поняла в истинных тайнах жрецов! [9]
Ни Роланд, ни я не знал ни одной из символических букв этих анаглифов. Говорили, говорили, говорили, все о людях, о которых мы никогда не слыхивали, о вещах, о которых никогда не заботились. Все что мы считали важным было ребячество, педантизм, мелочь; все что по-нашему было мелко и пошло – являлось великим делом в жизни! Если, встретив школьника, который, воспользовавшись свободным временем, удит пескарей на кривую булавку, вы начнете говорить ему о всех чудесах глубины морской, о законах прилива и отлива, о допотопных остатках игуанодона и ихтиозавра, если станете рассказывать ему о ловле жемчуга, о коралловых скалах, о водяных келпиях или найадах, ребенок, наверное, скажет: «Отстаньте от меня с этими глупостями! Оставьте меня удить моих пескарей!» Я думаю, что он был бы по-своему прав: он вышел, бедный ребенок, удить пескарей, а не слушать историю игуанодонов и водяных келпий!
Все общество Комптна удило пескарей, и мы не могли сказать ни одного слова о наших жемчужных ловлях и кораллах. Если же бы нас заставили ловить пескарей, то уверяю тебя, Пизистрат, что менее гораздо удивились бы мы предложению ловить сирен! Понимаешь ли ты теперь одну из причин почему я так рано пустил тебя в свет? Да. Но один из этих рыболовов ловил пескарей с такими приемами, что пескари казались более сомов.
Тривенион был со мною в Кембридже. Мы даже были довольно коротки. Он был почти одних лет со мной, ему также нужно было сделать себе дорогу. Беден как я, он принадлежал, подобно мне, к древнему, но падшему роду. Была, однако ж, и разница между нами. У него были связи в большом свете, у меня – нет. Главный его денежный ресурс, также, как и мой, заключался в университетской стипендии. Тривенион вынес из университета завидную славу, менее как ученый (хотя и с этой стороны слава его была недурна) нежели как человек имевший данные на успех в жизни. Всякая способность его была энергия. Он стремился ко всему: иное терял, другого достигал. Он отлично говорил в обществе, был членом какого-то политико-экономического клуба. Речь его была блестяща, разнообразна, парадоксальна, цветуща, не то что теперь. Боясь своего воображения, он всю свою жизнь употребил на то чтобы обуздать его. Но весь его ум привязывался к тому, что мы, Англичане, называем solide, прочным; этот ум был широк, подобен, милая Кидти, не киту, плавающему по океану знания из удовольствия плавать, а полипу, который протягивает все свои щупальца, с тем, чтобы схватить что-нибудь. Тривенион прямо из Университета отправился в Лондон: его репутация и беседа ослепили его знакомых, и недаром. Они употребили все свои силы и поместили его в Парламент: он держал речь, имел успех. В Комптн явился он в сиянии своей юношеской славы. Не умею передать вам, знающим его теперь, с его озабоченным лицом, отрывистыми, сухими приемами, от вечной борьбы обратившегося в кожу и кости, – что это был за человек в то время, когда он ступил на жизненное поприще.
Вы видите, мои слушатели, что мы тогда все были народ молодой, т. е. также похожи на то что мы теперь, как зеленеющая летом ветвь на сухое дерево из которого строят корабли или делают столбы для ворот. Ни человек, ни дерево не становится годным в жизни прежде той поры, когда осыплются листья и вытечет сок. И дела жизни преображают нас в странные вещи, других наименований: дерево уж не дерево, оно столб или корабль; юноша – не юноша, он или солдат об одной ноге, или государственный человек с ввалившимися глазами, или ученый в очках и в туфлях! Когда Мицилл (рука полезла опять за жилет), когда Мицилл спросил у петуха, некогда бывшего Пифагоров, [10] точно ли дело под Троей было так, как рассказывает Омир, петух отвечал гневно: «как мог Омир знать что-нибудь об этом? – он в то время был верблюдом в Бактрии.» – Так, Пизистрат, если задаться учением о переселении душ, ты мог быть верблюдом в Бактрии, когда то, что было в моей жизни осадой Трои, видело Тривениона и Роланда у её стен.
Что Тривенион был хорош собой – это вы видите; но красота всей его личности тогда была в вечной игре его физиогномии, её разумной оживленности; а беседа его была так приятна, так разнообразна, так жива, и сверх этого, так полна современного интереса! Пробудь он пятьдесят лет жрецом Сираписа, он не мог бы лучше знать анаглифы! Поэтому он проник своим любознательным и упорным светом все трещины и поры этого пустого общества. Поэтому, все удивлялись ему, говорили о нем, слушали его, и всякий заключал: «Тривенион идет в гору!»
Но я тогда не отдавал ему справедливости, как теперь: мы, ученые и отвлеченные мыслители, в первой молодости бываем способны судить глубину чьих-нибудь познаний или ума, но не довольно умеем ценить пространство ими занимаемое. Гораздо более воды в текучей струе, глубиною в четыре фута, и более силы и целебности, нежели в мрачном пруде, хотя бы и было в нем тридцать ярдов глубины! Я не отдавал справедливости Тривениону. Я не видел, что он естественно осуществлял идеал леди Эллинор. Я сказал, что она заключала в себе как бы нескольких женщин: в Тривенионе была целая тысяча мужчин. Ученость его должна была понравиться её уму, красноречие – пленить её воображение, красота – очаровать её зрение, честолюбие – затронуть её тщеславие; открытая, благородная и добросовестная решимость – удовлетворить её понятиям. И, более всего, он был честолюбив, честолюбив не так, как я или Роланд, а как сама Эллинор, ревнуя не к тому, чтобы осуществить один из великих идеалов в глубине сердца, а к тому, чтобы приобрести практические, положительные выгоды, вне сердца лежавшие.
Эллинор была дитя большего света: он тоже.
Всего этого тогда не видел ни я, ни брат Роланд, и, казалось, Тривенион не ухаживал особенно за леди Эллинор.
Приближалось время, когда мне приходилось говорить. Дом стал пустеть. Лорду Ренсфортс был досуг возобновить прежние, непринужденные беседы со мной: однажды, гуляя со мною по саду, он дал мне удобный случай объясниться. Не нужно говорить тебе, Пизистрат, – заметил отец, глядя на меня пристально, – что честный человек, в особенности если он принадлежит к низшему слою общества, обязан, прежде нежели откроет чувства свои дочери, поговорить с тем из родителей, чьею доверенностью он пользуется. – Я опустил голову и покраснел.
– Не знаю, как это случилось, – продолжал мой отец, – но лорд Ренсфортс обратил разговор к леди Эллинор. Упомянув о надеждах, возложенных им на сына, он сказал: «но он скоро вступит на поприще общественной жизни, скоро, – я уверен – женится, заживет своим домом, и я редко буду видеться с ним. А моя Эллинор! мне невыносима мысль что я совсем расстанусь с нею: поэтому-то, если сказать уж всю правду, я никогда и не желал, чтоб она вышла за богача и таким образом покинула меня навсегда. Я все надеялся, что она отдастся человеку, который будет согласен прожить со мною большую часть года, который сделался бы моим вторым сыном и не отнял бы дочь. Я не вздумал бы требовать, чтоб он проводил свою жизнь в деревне: его занятия, вероятно, привязывали бы его к Лондону. Мне нет дела того, где мой дом, я хлопочу из того чтобы у меня был свой дом. Вы знаете (прибавил он с многозначительной улыбкой), я часто объяснял вам что для Эллинор у меня нет пошлого честолюбия. её состояние будет очень незначительно, потому что у меня есть сын, а я всю жизнь привык проживать весь мой доход, и надеяться отложить теперь что-нибудь – поздно» Но её вкусы не требуют больших издержек; и покуда я жив, нечего переменять в её образе жизни. Пусть бы она только выбрала человека, чьи наклонности и способности, сродные ей, сделали бы ему карьеру, – и лишь бы эта карьера была сделана прежде нежели я умру.»» – Лорд Ренсфортс остановился; тогда, как и в каких словах – не знаю, все лопнуло! и полилась моя так долго скрываемая, робкая, недоверчивая любовь. Какую странную энергию придала она натуре, до тех пор скрытной и спокойной! Эта родившаяся вдруг преданность к адвокатуре, это убеждение что с такой наградой я буду иметь успех – было как бы перенесением труда от одного занятия к другому. Труд должен был одолеть все, а привычка усладить все пути. Адвокатство, конечно, было поприще, не столь блестящее как сенат. Но первым стремлением бедного человека должна была быть независимость. Главное, Пизистрат, главное то, что, бедный эгоист, я в эти минуты позабыл Роланда, и говорил как человек, который чувствует что в его словах вся его жизнь.