Рим, Неаполь и Флоренция
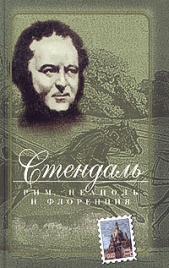
Рим, Неаполь и Флоренция читать книгу онлайн
«Рим, Неаполь и Флоренция» не является путеводителем в прямом смысле этого слова: здесь нет ни точных маршрутов, ни исчерпывающего описания памятников, ни других практических сведений, которые могли бы понадобиться беспомощному путешественнику, попавшему в эту столь своеобразную и столь привлекательную страну. Зато здесь есть нечто другое. Читая эту книгу, начинаешь лучше понимать итальянское общество и народ в его национальных и исторических особенностях. Этот народ, о котором в большинстве случаев умалчивали авторы бесчисленных путеводителей и путевых очерков, в книге Стендаля живет своей интенсивной внутренней жизнью, и его характер и реакция на внешние события проявляются в сотне анекдотов, рассказанных необыкновенно живо и увлекательно. Стендаль пытается воссоздать этот особый строй мысли и чувств во всей его исторической неповторимости. Он указывает на общественные причины этого изумительного национального своеобразия, связывая итальянский характер с исторической жизнью народа и с условиями его теперешнего политического существования. Тем самым он объясняет положение современной ему Италии и делает понятным то, что неискушенному взору могло бы показаться странным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итальянская манера чувствовать с точки зрения северян нелепа. Я думал об этом с четверть часа, но так и не смог придумать, какие объяснения, какие слова могли бы сделать ее постижимой для них. Усилие разума, на которое оказались бы способны самые достойные люди, привело бы их лишь к пониманию того, что данных вещей им не понять. Столь же нелепой была бы, например, попытка тигра растолковать оленю, какое наслаждение он испытывает от вкуса свежей крови.
Я сам чувствую, что все, мною сейчас написанное, выглядит смешным. Эти тайные помыслы составляют часть тех внутренних убеждений, которыми ни с кем не следует делиться.
2 марта. Бенефис Дюпора [292]. Он танцует в последний раз. Для Неаполя это целое событие.
Забыл упомянуть о декорациях к его балету «Золушка». Они написаны были художником, который хорошо знает подлинные законы ужасного. Дворец феи с погребальными светильниками и гигантской, в шестьдесят футов фигурой, которая пробивает свод и с закрытыми глазами указывает пальцем на роковую звезду, производит сильное впечатление, надолго остающееся в душе. Но словами не передать жителям Парижа этого рода наслаждение. Этой прекрасной декорации не хватает красок и светотени (и тени и световые пятна недостаточно резки).
Бальный зал в лесу, скопированный со Стонхенджа [293] в том же балете «Золушка», и дворец феи были бы замечательны даже в Милане. В Ломбардии гораздо лучше чувствуют волшебство красок, но порою рисунок из-за недостатка новизны не достигает должного эффекта. В Неаполе деревья зеленые, в Скáла они серо-голубые. Танцы в балете «Золушка» и в «Джоконде», балете Вестриса, поставлены почти совсем как в Париже. Но присутствие Марианны Конти и г-жи Пеллерини (одаренная мимическая актриса, которую можно сравнить с г-жой Паста) освобождает их от холодности, свойственной французскому танцу. Эта холодность и наша придворная грация очень хорошо представлены г-жой Дюпор, Тальони и г-жой Тальони [294]. Что до самого Дюпора, то это мой старый кумир, и я остался ему верен. Он забавляет меня, как котенок: я мог бы часами смотреть, как он танцует.
Сегодня вечером публика с трудом сдерживала свое желание аплодировать, король подал пример. Из своей ложи я слышал голос его величества, и восторги дошли до неистовства, не утихавшего три четверти часа. У Дюпора — все та же легкость, которую мы знали у него в Париже в роли Фигаро. Усилия никогда не чувствуешь, танец его мало-помалу оживляется, завершаясь восторгами и опьянением страстью, которую он стремится выразить: здесь предел экспрессивности, доступной этому искусству. Или, во всяком случае, если уж выражаться точно, я никогда не видел ничего подобного. Вестрис, Тальони, как все обычные танцовщики, вначале не могут скрыть своего напряжения. Затем в их танце нет нарастания, почему они не могут достичь даже страстной неги, первой цели искусства. Женщины танцуют лучше мужчин. Сладострастие для взора, затем восхищение — и вот в чем единственное достояние этого столь узкого искусства. Глаза, плененные блеском декораций и новизной танцевальных мизансцен, должны располагать душу к пылкому и глубокому восприятию страстей, изображаемых фигурами танца.
Я хорошо заметил различие между обеими школами. Итальянцы безо всяких споров признают превосходство нашей, но, сами того не подозревая, гораздо больше чувствуют достоинства своей. Дюпор должен быть доволен: сегодня вечером ему много аплодировали; но настоящие восторги выпали на долю Марианны Конти. Подле меня сидел француз самого хорошего тона, который в своем страстном волнении дошел до того, что заговорил со мною. «Какая непристойность!» — поминутно повторял он. Он был прав, а публика еще больше права, приходя от этого в восхищение. Непристойность — понятие более или менее условное, а танец почти целиком основан на некоторой дозе сладострастия, которая итальянцев восхищает, а нас с нашими представлениями коробит. Даже самые смелые па не вызывают у итальянца мысли о какой бы то ни было непристойности. Он наслаждается совершенством в данном искусстве, как мы прекрасными стихами «Цинны», не думая о смехотворности единства места. Для беглых впечатлений малозаметные недостатки просто не существуют. Что считается приятным в Париже, непристойно в Женеве: все зависит от степени показной добродетели, внушаемой местным попом. Иезуиты гораздо более благосклонны к искусству и радости, чем методисты. Где в искусстве танца идеально прекрасное? До сих пор оно отсутствует. Искусство это слишком зависит от влияний климата и нашей физической организации. Идеал красоты менялся бы через каждые сто лье.
Французская школа достигла пока одного — совершенства исполнения.
Теперь надо только, чтобы какой-нибудь гений использовал это совершенство. Так же обстояло дело в живописи, когда появился Мазаччо. Великий в этой области человек находится в Неаполе, но к нему относятся здесь с пренебрежением. Виганó создал «Li Zingari», или «Цыгане». Неаполитанцы вообразили, что он хотел над ними посмеяться. Этот балет содействовал обнаружению некой забавной истины, о которой никто не подозревал: что национальные нравы Неаполитанской области в точности соответствуют цыганским (см. «Новеллы» Сервантеса [295]). И вот Виганó дает урок законодателям: такова польза, приносимая искусством! И какой в то же время успех для искусства, в котором так трудно выражать жизнь, — заставить его изображать, и притом превосходно изображать, именно нравы, не страсти (то есть навыки души в поисках счастья, а не какое-либо мгновенное бурное состояние). Один танец, который исполняется под звон котлов, особенно возмутил неаполитанцев, они решили, что их дурачат, и еще вчера у герцогини Бельмонте некий молодой капитан приходил в ярость при одном упоминании о Виганó. Для того, чтобы неаполитанцы обрели свое естественное состояние, им необходимо выиграть два таких сражения, как Аустерлиц [296] и Маренго: без этого они всегда будут обидчивы. Но, — сказал бы я им охотно, — есть ли человек храбрее г-на де Рокка Романа? Виновны ли образованные люди в том, что монахи развратили простолюдинов, таких мужественных в те времена, когда они назывались самнитами, и ставших столь ничтожными с тех пор, как они поклоняются святому Януарию [297]? Случай с балетом Виганó был для меня лучом света, направившим меня по настоящему пути к изучению этой страны. Новерр [298], как говорят, умел показать сладострастие, Виганó выдвинул на первое место во всех жанрах выразительность. Инстинктивное чутье к своему искусству позволило ему даже раскрыть подлинную сущность балета, его по преимуществу романтический дух. Все, чего в этом отношении может достичь драматургия, дал Шекспир. Но для очарованного воображения «Беневентский дуб» — гораздо больший праздник, чем «Грот Имогены [299]» или «Арденнский лес» меланхолического Жака [300]. Душа, охваченная удовольствием новизны, целый час с четвертью предается восторгу. И хотя из страха показаться смешным эти удовольствия никак не выразишь на бумаге, они не забываются много лет. Этого впечатления не передать в нескольких словах, надо говорить очень долго, надо взбудоражить воображение зрителей. В замке Б. во Франции госпожа Р. рассказывала нам балет «Беневентский дуб», и мы до трех часов ночи не расходились из ее гостиной. Нужно, чтобы воображение зрителей, полное воспоминаний об испанском театре и «Кастильских новеллах», само развивало все сюжетные положения, нужно также, чтобы ему уже надоело то развитие, которое дается в словах. Растроганное музыкой воображение словно обретает крылья, и действующие лица балета, лица без речей, говорят для него каким-то особым языком. Таким образом, балет в духе Виганó достигает драматургической стремительности, которой не обладает и сам Шекспир. Это причудливое искусство, может быть, скоро совсем погибнет: высшего расцвета оно достигло в Милане в счастливые времена Итальянского королевства. Для него нужны огромные средства, а несчастному театру Скáла осталось жить, может быть, всего года два-три: австрийский деспот не стремится, подобно Лоренцо Медичи, украсить цепи рабства и духовную приниженность радостями изящных искусств. Благочестие заставило закрыть игорные дома, доходами с которых жил театр; может быть, исчезнет даже память об этом искусстве. От него останется только имя, как от Росция [301] или Пилада. Так как Париж его не знал, оно осталось неизвестным и всей Европе.



![Словарь церковных терминов [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/132300/132300.jpg)





















