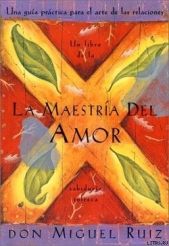AMOR
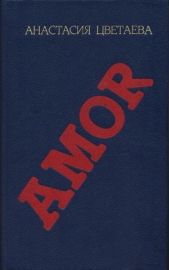
AMOR читать книгу онлайн
Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В саду цесарки, фазаны, и всюду собаки и кошки, а на столах — сыры, брынза, масло, окорок, мед, вина, абрикосы, груши, орехи. На армане — золотые соломенные коридоры, где один раз почти заблудились "панич" и его подруга. В жаркие часы, полуденные, серебрятся по горизонту миражи — плывут пароходы на несуществующем море и отброшены в воздух татарские сакли где‑то^ в дали утонувшей деревни Ортай.
Ника и Андрей не расстаются. Но на стене его комнаты, теперь их спальни, — дышит не менее живой, чем они, жизнью, портрет Елены — кисти Андрея. Сизо–синее платье полукругом оттеняет белизну её шеи, обводит плавный спуск плеча. Пышность темных волос спадает назад волной. Синева глаз таит таинственную радость, губы вот–вот засмеются. До чего хороша! Но какой же Андрей — художник, это создавший… Андрей предложил — снять его, перевесить в другую комнату. Ника, естественно, отклонила. Она не смеет сознаться себе, что она от портрета — страдает. Но разве она сможет допустить, чтобы Андрей его снял?
Светлая роща, да! Сколько в этом саду света, брошенного солнцем и осенью на рвущиеся в ветер деревья, в вихрь их оттуда срывающий и несущий по саду, над садом, над Сережей, бегущим с собаками вокруг низкого, скромного дома… С минуту Ника стоит оторванная, как лист, от всего: этот дом напоминает — другой, в воронежской степи, куда, оставляя её тосковать по калужским холмам над Окой, уходил Глеб, как гоголевский казак, в свою степь влюблённый… Сереже там был — год, не помнит!
Раскрыв дверь в сарай, в луче солнца, Андрей зовёт её — пировать: груды яблок и груш невиданной величины и расцветки! Не успевают раскладывать урожай плодов! Абрикосы, персики, в зеленой ещё шелухе — орехи. А поздние розы! Аллея роз!
Счастье по часам дня идёт, как по ступеням лестницы, — вглубь: вечер, захолодало. Вороха соломы завалили прихожую, где топится печь: станет тепло в столовой и в маленькой комнатке рядом (тут жила Сильвия…). И в раскрытую дверь тепло на теплых лапах войдёт — хмурящийся на огонь Гри-Гри — великолепный кот, темно–тигровый.
Жарко! Печь — как чуланчик, высокий, и темный, и пустой каждый раз, как дают соломе сгореть. Ника просит чуть-чуть подождать, упиться шорохом огнистого низа печки, мгновенно темнеющего под опустевшим сводом, унесшим огонь вверх, — такого она не видала; и снова летит в печь сноп, вспыхивая, празднуя неистовое объятие огня, рев трубы (в саду — ветра), и уже стих россыпью тлеющих стебельков; периной упругой, пышущей, шепчущейся; внизу — черно–красной.
Блаженно греются люди и кошки — Гри–Гри и Тигричка — на полу озаренной прихожей. Пятнаддатилетняя Марфа — бело–черная! и её сын четырнадцати лет — пучеглаз. Лицо Андрея изваяно из меда — огнем.
Ника много раз слышала, что Андрей — художник. Но столько богатств было в Андрее, что ей как‑то не верилось в его этот талант… Она застенчиво молчала об этом, боясь взглянуть на его работы. Елена — та, по его рассказам, досаждала даже — напоминаньями, чтоб работал. Зачем? Средних художников — много…
Это ли чуя в ней, он никогда не говорил о своей живописи. Тосковал ли он — в болезни — по ней? По коню — тосковал люто; даже сам запах конюшни — к этому все в нем рвалось. Живопись? Разве она была его жизнью? — думалось Нике.
Андрей стоит посреди лужайки, у склонак грецким орехам, о которых он вспоминал, лежа больной у Ники. Перед ним легкий дорожный мольберт, ящик с красками, масло. В левой руке — палитра.
Взгляд сосредоточен, остер, рот сжат. Нике — подошедшей было и тотчас отошедшей — его взгляд показался невидящим. Но и она права: не только её он не видит, ничего не видит сейчас. Нет, он видит. Он видит цвет, переходящий в другой, тень, обнимающую освещенную плоскость, это не плоскость, это торжество света и волшебно рождающийся объем. Перед ним на фоне высоких деревьев — копна. С замершим сердцем отходит она тихонько, в удивлении, не понимая. Но она говорит себе: молчи и уйди. И — уходит.
Она боится снова своих мыслей и чувств. Отвлеченья сейчас! О, к Сереже! Счастливо бежит она, как девочка, по предвечерним полянам сада, подбирая яблоко, срывая веточку слив, от себя убегая. Свежий голосок сына — ему скоро шесть! — слышится ей навстречу.
…Поймать, успеть, освещение! Розоватость эту, еле ещё уловимую, сена — посредине, тонущую в лиловизне правого бока, где тень… Густоту зеленого тона, поглотившего край тени по боку копны и вбок от нее упавшую на лужайку длинную тень от копны. Не упустить эту замшу, оливковолиловатую, это "наотмашь" отраженье копны!
Уже пало начало вечернего сумрака, когда Ника увидела идущего в дом Андрея… Он улыбался ей. Взяв её за руку, он с нею вошёл к себе. Положив мольберт, палитру и краски, он закрыл дверь. В закатное окно ещё шло последнее догорание зарева.
— Скорее! — сказал он. — Свет уходит!
Он шагнул к окну со своим этюдом в руке. Ника, приникнув к плечу Андрея, медлила взглянууь. Сердце её — билось. Она боялась. Это был — миг: взгляд, всплеснувшись, уже тонул в пласте солнца, сочно приникшем к зеленой поляне, слившись с ней, родясь в новый цвет (не тот, что покинула Ника, уходя из сада, о, совершенно другой!). Жадный глаз художника совершил это волшебное претворение, взнуздав все цвета предзакатности для сумасшедшей скачки прощанья солнца с землёй. Пласты сена, запылавшие розоватостью, превращали стог — в праздник света, круто по краю, где легли тени, рушившегося в лиловую мглу, и была в ней сиреневость, поглотившая розоватость. Стог был почти кругл. Он выступал вперёд, он почти сверкал мягким последним сверканьем — перед тем, чтоб начать гаснуть. Пласт солнца, заливавший полянку, был темно–зеленое золото. Но цвет был неподвластен словам. В нем смешались все краски дня, отданные закату. Крутые полукруги лесных дубрав за всем этим были почти темны.
Ника стояла молча, прижавшись щекой к плечу Андрея. Его лицо было радостно, светло, как во сне.
"Прости меня! — говорит мысленно Елене Ника. — Я была плохой тебе заместительницей, но я же не знала. Он, по скромности, не сказал мне, какое меня ждёт наслаждение! Но я обещаю тебе, что он будет писать, он мне вчера сказал это — ты не должна огорчаться его словам, что будет писать для меня, — сколько лет он писал под твоим восхищеньем, мы тут все вместе, твои глаза смотрят на него — с твоего портрета, под твоим портретом — всегда цветы!.."
Ника, как Скупой рыцарь, перебирала вынутые им этюды. И любимые Андреем сиреневые и лиловые тени все сплетают, обрамляют, делая все живее во сто крат!
Ника счастливо смеется над своими сокровищами. Скупой рыцарь! — он сейчас ей принесет новый дар!..
В конце зимы Андрею назначили операцию, в Симферополь поручили везти его — Нике. В гостинице, когда Ника слушает советы и резоны хирурга о наркозе, нянька зло говорит Нике:
— И сестра их от чахотки померла — скоро и Сережа заболеет чахоткой…
— Вы прекрасно знаете, что я никогда не даю ему есть или пить из посуды Андрея Павловича… — резко отвечала мать.
— Мало ли чего не даёте! Сами пьете с больным и заразите ребенка.
— Ребенка в губы никогда не целую и не даю никому целовать.
— Заболеет, дождётесь! — садистски тянет нянька. — Припадки‑то уж начались!..
— Какие припадки? Вы будете говорить по–человечески — или мне вас поучить говорить?
— Учить нечему, научены! — наглеет нянька. — Как вчерась бельмы глаз закатил под лоб, да как задёргался, я тут с ним одна — думала, со страху пропаду… Мать называется!
— Как вы меня называете — мне нет дела, — в тихом бешенстве отвечает Ника, — какой был с ребенком припадок и как вы могли молчать?!
— Потому как вниманья не обращаете. Только и делов слышно — температура, да питанье, да операция, других слов у вас нет, что только один Андрей Павлович…
Подойдя — вплотную:
— Вы будете говорить — или нет?
— Что мне говорить, пусть сам ребенок расскажет… Голубонька моя, расскажи‑ка матушке своей родной, что с тобой вчерась приключилось…