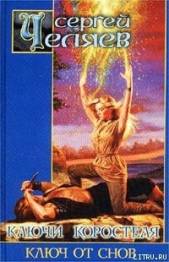Детская любовь

Детская любовь читать книгу онлайн
Две тайны. Два сложных положения. Две ветви событий. И у каждой свой запах, каждая расцветает по-своему. Жизнь богата, в сорок лет она, пожалуй, богаче, чем в двадцать, вопреки обычным взглядам. Человек в двадцать лет — это шофер, опьяненный машиной, не видящий пейзажа. И, кроме того, он не осмысливает сложных положений. Рубит с плеча. Чтобы находить удовольствие в сложных операциях, надо иметь навык в простых…
Третья часть тетралогии «Люди доброй воли».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Я склонен к страху. Не столько из честолюбия, сколько из страха я сдался нефтепромышленникам. Вот этого нет у великого человека. Это пагубная слабость для всякого деятеля… Так ли это? Наполеон, как будто, знал страх; Робеспьер знал страх… Неподкупный».
Удручающая сухость его размышлений немного смягчается. Начинается какое-то движение на горизонте души, спешит на выручку какая-то мысль.
«Самый лучший ответ. Самая лучшая защита. Против внешнего врага. Или когда тоска на тебя находит. Довод, который всегда заставляет честных людей призадуматься, а сволочь — замолчать: бедность! „Вы обвиняете этого человека? В чем? Во всяком случае — не в продажности. У него нет денег. Он живет в квартире из двух комнат. В палату он ездит на трамвае“.
В общественной жизни бедность обладает чудесной нравственной силой. Взять хоть старика Комба, который живет в скромной квартирке, как отставной столоначальник, на улице Клода Бернара. Вот уж кого было бы приятно опорочить! Все перья наемных писак, заботливо очинённые, были наготове. Да, но старик был беден. Что было с ним поделать? Ему достаточно было самому выйти отворить дверь своей квартиры: „Вы ищете миллиарда, нажитого на законе о конгрегациях? Пожалуйте, господа. Едва ли вы здесь найдете его“. А что всегда стесняло Клемансо? Нет доказательств, что он продался Англии, ни даже Корнелиусу Герцу. Согласиться принять деньги на газету не значит, конечно, продаться. Но его роскошный образ жизни! Сотни тысяч франков, которые у него текли сквозь пальцы в ту пору, когда его работа в газете, прилично оплачиваемая, могла бы разве что не дать ему околеть с голоду!»
Гюро дает себе слово остаться бедным. Ему не терпится представить себе самому доказательства честности. Не только с целью обезоружить врага. Он хочет ощутить в своей жизни уголок доблести, своего рода собственную часовню, куда человек ходит молиться без свидетелей.
«На себя я уже и теперь трачу очень мало. Но мне важно подчинить себя принципиально более умеренному режиму, „с показательной целью“, как говорят в прениях по бюджету. Единственный упрек в роскоши мог бы касаться моей одежды, а также стола. Ну что ж, я могу круглый год носить один и тот же костюм. Нейтрального цвета: темно-серый, например. Два галстука в год. Небольшие рестораны с твердыми ценами на бульваре Сен-Мишель довели бы меня до больницы. Но некоторые дешевые рестораны кормят прилично. Кусок вареного мяса. Антрекот с картофелем. В обществе кучеров и мастеровых.
Остается вопрос о Жермэне. Она достаточно интеллигентна для того, чтобы понять, пусть даже не одобрить мои доводы. Я объясню ей, что морально больше ничего не могу ей давать. А если она рассердится, порвет со мною, ничего не поделаешь. Впрочем, ее удерживают не мои жалкие подарки. И наконец, повторяю, ничего не поделаешь! Любовь, зависящая от месячных взносов… Я заслуживаю большего.
Лишние деньги? Я буду вносить их в кассу газеты. В дураках останется Саммеко».
Он открывает глаза. Комната окружает его довольно уже успокоительной средой. Глубокий страх немного рассеяло освещение, отдалила первая работа зрения.
«Я согласился только условно. Я не дам себя провести. Они меня нисколько не связали. Я хочу, чтобы мое поведение можно было оправдать перед кем угодно.
Жорес. Надо мне в самом деле поговорить с ним обстоятельно. Мне еще не совсем ясно, о чем. Обо всем понемногу. Сегодня же попрошу его принять меня».
XVIII
ВЕЛИКИЙ КРИТИК
У Жоржа Аллори был каждое утро прием посетителей от одиннадцати до двенадцати. Он считал его средством поддерживать свое влияние; вынуждать ряд писателей, начинающих и заслуженных, ухаживать за ним. И действительно, эти несколько сот посетителей за год, разбегавшиеся затем по Парижу, невольно раздували его значение. Но главное, этот час приема был полезен в смысле умственной гигиены: он располагал его к работе.
Физически он не был богат ресурсами. Человек худощавый, с дряблыми мышцами; малокровный, со свежим цветом лица. В раннем детстве, а затем на двадцатом, приблизительно, году жизни у него был легкий туберкулезный процесс, по-видимому, оставивший по себе некоторые следы. Но ни раньше, ни теперь он никогда не выказывал той своеобразной и тревожной пылкости, которая, говорят, наблюдается у многих чахоточных. Токсины, очевидно, не опьяняли его, или же быстро истощились. Словом, после того как тревога миновала, он вернулся к своему нормальному органическому режиму, которым была расслабленность, а не болезненная страстность.
Ленив он был по призванию. Его мечтой было жить жизнью барона де Жениле, только чтобы денег было больше, чем у барона. Никаких забот. Никаких физических усилий. Никаких умственных усилий, кроме необходимых при беседе. Утром — валяться в постели. Уделять много времени тщательному туалету. Днем и вечером — светские обязанности. Все лето — в деревне. Время от времени — поохотиться, ради изящества этого спорта, с самыми нарядными охотничьими принадлежностями, отличными загонщиками, и как чумы остерегаясь вставания на рассвете и дождливой погоды. Никаких путешествий. Он был домоседом, терпеть не мог отелей, нимало не интересовался жизнью других народов и не желал знать, действительно ли висят знаменитые полотна в тех музеях, которым они принадлежат. В сущности, он был гораздо меньше артистом, чем иной буржуа вроде Саммеко.
В его пристрастии к светским людям не было, таким образом, никакого показного снобизма. Оно совершенно самопроизвольно процвело на почве его естественного призвания.
Но с этой стороны ему не слишком благоприятствовало его происхождение. Он был сыном сборщика пошлин за совершение документов в Балансе, и его настоящее имя было Авраам Давид.
Те, кто знал его еще под этим именем или наталкивался на эту справку в каком-нибудь ежегоднике, торопились сообщать другим, что он еврей. Во время дела Дрейфуса это причиняло ему много неприятностей. Он доказывал свое христианское происхождение. Результатом этих протестов было только то, что его стали считать евреем, стыдящимся своего еврейства, и это никому не нравилось.
В действительности Давиды — это был старый протестантский род, обосновавшийся за сто лет до того в низовьях Ардена. Сборщик пошлин Давид, очень свободомыслящий кальвинист, общительного нрава, усердно посещал кегельбан в Сен-Пере. Там был его партнером некто Малапарт, досмотрщик винных погребов, корсиканец из окрестностей Бастии, тоже человек веселый, в противоположность большинству своих соотечественников, и очень гордившийся своей фамилией, как вариантом или пародией фамилии Бонапарт, которую, впрочем он мало уважал, подобно многим жителям западной Корсики. Оба приятеля стали отцами в 1858 году, отстав один от другого только на несколько месяцев. У обоих родились сыновья. Малапарт поспешил назвать своего сына Наполеоном. Давид, желая пошутить не хуже, после долгих потуг не придумал ничего остроумнее, как назвать своего сына Авраамом. Антисемитизма в ту пору не существовало, особенно в Балансе. Давид этой опасности не принял в расчет. Словом, общительный протестант и веселый корсиканец выпили не знаю уж сколько бутылок Сен-Пере по случаю того, что произвели на свет Наполеона Малапарта и Авраама Давида.
Когда молодой Авраам посвятил себя литературе, одной из его главных забот стал выбор псевдонима. Ему бы хотелось иметь псевдоним с «де». Жорж де Жалье — это звучало недурно. Так он подписал несколько поэтических очерков в студенческом журнале. Но он боялся, не слишком ли это резкий переход от Авраама Давида. Кроме того, из одного спора с товарищами он вынес убеждение, что писателю важно иметь такую фамилию, от которой бы критика и история литературы могли в будущем образовать прилагательные. (В ту пору молодой Авраам заглядывал далеко в грядущее.) Сколько чувств и характеров объявлены были ламартиновскими или бальзаковскими, оттого что прилагательное напрашивалось само собою! От Жалье ничего нельзя было произвести. Жалье, как бесплодное животное, не рождал решительно никаких прилагательных. Однажды, перелистывая альбом итальянской живописи, молодой человек прочитал под одной гравюрой, почувствовав особое волнение; «Жертва Авраама», и под этой блестящей надписью имя живописца: Аллори (прозванного Бронзино). Авраам Давид как бы внял оракулу: он подчинился приговору, без малейшего юмора. Юмора у него не было ни капли, и в этом, по крайней мере, отношении ему передалась кальвинистская строгость предков, изменившая его отцу, любителю кегельбана. Итак, он решил называться Жорж Аллори. Всего четыре слога, что легче произнести и запомнить. А главное преимущество Аллори состояло в том, что от него рождалась куча прилагательных: аллорианский, аллорический, аллористский… (как грациозно и меланхолично звучит «аллорианка») и так далее. Заметим, что тридцать лет спустя, в 1908 году, еще не ощущалось надобности ни в одном из этих прилагательных.