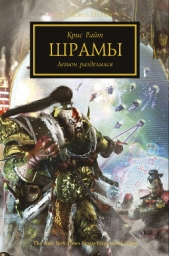Обретенное время

Обретенное время читать книгу онлайн
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Бог ты мой! — воскликнул Жюпьен, — я же говорил, не нужно уходить далеко, вот он уже беседует с юным садовником. До свиданья, сударь, будет лучше, если я с вами распрощаюсь. Нельзя и на секунду оставить моего больного — теперь это просто большой ребенок».
Я вышел из экипажа, на этот раз поблизости от особняка принцессы де Германт, и снова подумал о той усталости, скуке, с которой накануне я пытался разглядеть линию, отделявшую, в красивейших, как говорят, местах Франции, полоску тени на коре. Конечно, вчерашние умозаключения сегодня не действовали на мои чувства столь же жестоко. Они остались теми же. Но едва ли не каждый раз, стоило мне ощутить, что я оторвался от своих привычек, выходя в другой час, в другом месте, я испытывал живую радость. Сегодня это было совершенно пустое удовольствие — посещение утреннего приема г-жи де Германт. Но теперь я знал, что мне не предначертано ничего, кроме пустых удовольствий, и с какой стати я должен отказываться от них? Я повторял, что при описании я не ощутил ровным счетом никакого воодушевления — что, конечно, не единственный, но первый признак таланта. Тогда я попытался вытащить из памяти другие «снимки», в особенности — сделанные ею в Венеции, но это слово только нагнало на меня скуку, словно то была выставка фотографий, и у меня уже не было ни вкуса, ни таланта на описание виденного мною давно, как вчера, когда у меня не нашлось сил выразить, что предстало моему кропотливому и тусклому взгляду. Пройдет минута, и мои друзья, давно не видевшиеся со мною, потребуют от меня прервать уединение, пожертвовать им своим досугом. Больше у меня не было никаких причин отказывать им, поскольку теперь я знал, что я ни на что не способен, что литература никогда не принесет мне радости, — либо по моей вине, ибо я лишен этого дара, либо из-за нее самой, если она и правда не исполнена действительности, как я верил. Мне вспомнились слова Бергота: «Вы больны, но пожалеть вас сложно — у вас есть духовные радости», — как он во мне ошибался! Как мало было радости в этой бесплодной ясности! К тому же, я расточал эту радость, если она и была — только не духовная, — на женщин, так что, ссуди мне Судьба еще столько же лет жизни, без недуга, она бы только растянула это существование, и какой был смысл тянуть его дальше, тем более — еще много лет. Что касается «духовных радостей», то разве можно так называть эти холодные констатации, безрадостно схваченные моим взглядом, отмеченные моим точным рассуждением, так и не принесшие плода?
Но как раз в те минуты, когда нам кажется, что все потеряно, до нас и доходит спасительная весть; мы ломились во все двери, но они никуда не вели, ни о чем не догадываясь, мы толкаем единственную, которой суждено нас вывести, которую мы тщетно проискали бы еще сотни лет, и вдруг она отворяется. Копаясь во всех этих печальных мыслях, я вошел во двор особняка Германтов; по рассеянности я не заметил тронувшегося экипажа, и на крик вожатого едва успел метнуться в сторону; отступив, я нечаянно споткнулся о довольно плохо отесаный булыжник у стены каретника. Но в то мгновение, когда, восстановив равновесие, я поставил стопу на окатыш, несколько сильнее вдавленный, чем первый, мое уныние рассеялось, и это было то же самое блаженство, которое, в прежние годы моей жизни, пробудили во мне деревья на прогулке в коляске вокруг Бальбека, как показалось мне, узнанные мною [146], вид колоколен Мартенвиля, вкус печенья «мадлен», размоченного в настое, и столько других уже описанных мною ощущений, все, что, как слышалось мне, воплотили собой последние работы Вентейля. Как в ту минуту, когда я распробовал мадлен, тревоги о будущем и интеллектуальные сомнения рассеялись. И даже те, которые относились к моим литературным дарованиям и реальности литературы как таковой, только что мучившие меня, испарились словно по волшебству. Не было никаких новых рассуждений, я не отыскал новых решительных аргументов, а препятствия, только что неодолимые, потеряли свое значение. Но на этот раз я решил не смиряться, что мною так и не понята природа этого действия, как это было, когда я распробовал мадленку, размоченную в настое. Блаженство, только что испытанное мною, походило на изведанное во вкусе мадлен, — но тогда я отложил поиск глубоких корней этого ощущения на потом. В воскрешенных образах была чисто материальная разница; глубокая лазурь застилала глаза, чувство свежести, ослепительного света охватило меня и, пытаясь его уловить, я не смел и шелохнуться, как тогда, когда ощутил вкус мадлен, — выжидая, что рассказ этого чувства сам достигнет моего сердца; я так и стоял, рискуя вызвать смех многочисленной толпы шоферов, переступая с щербатого булыжника на покатый. Всякий раз, только физически повторяя этот шаг, я не извлекал из него никакой пользы; но если бы мне удалось забыть о приеме у Германтов и обрести то, что я чувствовал, поставив стопы на камни, то меня снова коснулось бы ослепительное и смутное видение, словно говорившее мне: «Не упускай меня, пойми меня, пойми загадку счастья, которое я тебе дарю». И я тотчас узнал ее: это была Венеция; я никогда не мог приблизиться к ней, пытаясь ее описать, и не более меня приближали к ней все эти «снимки», хранимые памятью, — но ощущение, испытанною на двух неровных плитках баптистерия Сан-Марко, вернуло мне ее с остальными, скучившимися сегодня в этом чувстве; они таились, выжидая, на своем месте в ряду забытых дней, покуда внезапный случай не вырвал их властно оттуда. Вкус мадленки напомнил мне Комбре. Но почему, когда я восстанавливал образ Комбре, образ Венеции, меня переполняла радость, в чем-то очень определенная, — и ее, безо всяких других мотивов, было достаточно, чтобы смерть утратила для меня свое значение? Все еще прислушиваясь к себе, я решил сегодня же найти ответ и вошел в особняк Германтов, потому что мы всегда ставим выше внутренних нужд наши мнимые роли; сегодня это была роль приглашенного. Я поднялся на второй этаж, дворецкий попросил меня подождать в маленькой гостиной-библиотеке, смежной с буфетной, пока не доиграют этот отрывок; принцесса запретила открывать двери во время исполнения. И в эту секунду то, что подарили мне два неровных булыжника, укрепила вторая весть, воодушевляя меня упорствовать в труде. Дело в том, что лакей, тщетно старавшийся не произвести шума, стукнул ложечкой о тарелку. Блаженство в том же обличье, что и испытанное мною на неровных плитках, переполнило меня; впечатления были еще теплей, но они были другими: смешанными с запахом дыма, успокоенными свежестью лесной опушки; я понял, что таким милым предстал мне тот же хоровод деревьев, который вчера показался несколько скучноватым для наблюдения и описания, перед которым, сжимая в руке взятую с собой в дорогу бутылку пива, — почудилось мне на мгновение, в своего рода забытьи, — я и стою; это было подобье стука ложечки о тарелку, внушившего мне это забытье, пока я не опомнился, и стука молотка в руках у рабочего, прилаживавшего что-то к колесу поезда, когда он стоял на опушке. Такое ощущение, что знаки, благодаря которым в этот день я мог рассеять уныние и обрести веру в словесность, должны были умножиться в сердце; дворецкий, уже давно служивший у принца де Германт, узнал меня и принес мне в библиотеку, чтобы мне не ходить в буфетную, печенье и стакан оранжада, я вытер рот салфеткой, которую он мне подал; тотчас, словно персонаж Тысячи и одной ночи, который, сам того не ведая, в точности исполняет обряд и вызывает послушного, ему лишь видимого джинна, готового перенести его в далекие страны, перед моими глазами проплыло еще одно лазурное видение; лазурь была чиста и солона, она раздувала голубоватые сосцы; впечатление было настолько сильным, что пережитое мною мгновение показалось мне подлинным; я еще сильней обеспамятел, чем в тот день, когда спрашивал себя, действительно ли меня примет сейчас принцесса де Германт, или же сейчас все рухнет; мне почудилось, что еще чуть-чуть, и слуга откроет окна на пляж, что все зовет меня выйти, прогуляться вдоль мола в часы прилива; дело в том, что салфетка, которой я вытер рот, была так же жестко накрахмалена, как та, которой я с таким трудом вытерся возле окна в первый день нашего пребывания в Бальбеке, — и теперь, в библиотеке особняка Германтов, она разворачивала, вернувшись в свои рубцы, свои складки, оперение океана, зеленого и голубого, как хвост павлина. Я наслаждался не только этими красками, но цельным мгновением жизни, проявившей их, и к ним, наверное, — которыми я не насладился в Бальбеке от какой-то усталости, быть может, и грусти, — и стремившейся; теперь она, освободившись от всякой незаконченности во внешнем восприятии [147], чистая и бесплотная, переполняла меня весельем. Отрывок концерта мог закончиться с минуты на минуту, мне нужно будет войти в гостиную. Так что я изо всех сил старался, как можно скорее, вникнуть в природу этих тождественных радостей, только что, три раза за несколько минут, расчувствованных мною, чтобы воспользоваться наконец уроком, который необходимо из них извлечь. Я не остановился на огромной пропасти между настоящим впечатлением от предмета, и впечатлением искусственным, составленным нами при сознательной попытке воссоздать этот предмет; я помнил, с каким безразличием Сван думал о днях, когда он был любим, — потому что за этими словами он не видел их, он видел что-то другое, — и внезапную скорбь, которую вызвали в нем несколько тактов Вентейля, ибо, благодаря этим тактам, те дни предстали ему сами по себе, какими он их ощущал; я прекрасно понимал, что то, что пробудилось во мне, когда я почувствовал неровность плит, жесткость салфетки, вкус мадлен, никоим образом не примыкало к моим воспоминаниям о Венеции, о Бальбеке, о Комбре, когда в моем распоряжении был только шаблонный набор воспоминаний; я понял, отчего называют жизнь посредственной, хотя иногда она была столь прекрасна, — потому что, когда мы судим ее и обесцениваем, мы основываемся на чем-то отличном от нее самой, на образах, ничего от нее не сохранивших. Помимо того, я мимоходом отметил, что отличие между каждым реальным впечатлением (они свидетельствуют, что однородная картина не имеет к жизни никакого отношения), вероятно, объясняется тем, что даже незначительное слово, сказанное нами в какой-либо отрезок жизни, и самые незначимые наши поступки окружены и несут на себе отсвет вещей, логически из них не выводимых, потому что они отделены от этих вещей интеллектом, для работы которого они бесполезны, — но и поступок, и простейшее ощущение (будь то розовый вечерний блик на покрытой цветами стене сельского ресторана, чувство голода, страсть к женщине, наслаждение роскошью, будь то голубые волюты утреннего моря, обступившего музыкальные фразы, слегка выступающие из него [148], как плечи ундин) заперты в них словно в тысячах закупоренных ваз, каждая из которых заполнена совершенно несхожими цветами, запахами, температурами; не считая того, что эти вазы расставлены по всей высоте наших лет, на протяжении которых мы безостановочно меняемся, душой или мыслью, они расположены на разной высоте, и мы чувствуем, как разнятся эти атмосферы. Правда, эти-то изменения для нас и неощутимы; но между внезапно всплывшим воспоминанием и нашим сегодняшним состоянием (как и между двумя воспоминаниями о разных годах, местах, часах) расстояние таково, — даже если не принимать во внимание их неповторимое своеобразие, — что они несоотносимы. Они так и не сойдутся, если воспоминание, по милости забвения, не протянет между ними какой-либо нити, не свяжет себя одним звеном с настоящей минутой, если оно останется на своем месте, в своих годах, если оно сохранит свою удаленность, одиночество в полости далекой долины, на пике какой-то высоты; и тогда память внезапно наполнит новым воздухом наши легкие, и это будет воздух, которым мы уже дышали когда-то, это будет чистейший воздух, который поэтам не удастся разлить в Раю, потому что и там мы не придем к этому глубочайшему обновлению, — над этим чувством властен только тот воздух, которым мы уже дышали, ибо настоящие раи суть потерянные раи. Заодно я отметил, что при создании произведения искусства, для которого, казалось, я уже созрел, хотя это произошло подсознательно, я встречу большие трудности. Ибо если бы я и взялся за изображение ривбельских вечеров, когда в столовой, открытой на сад, жара падала, распадалась и скрадывалась, когда последние отблески еще освещали розы у стены ресторана, пока в небесах виднелись еще последние акварели дня, — я должен буду исполнить эти последовательные части в веществе отличном от того, которое подошло бы воспоминаниям об утреннем береге моря, о днях в Венеции, — в веществе четком, новом, прозрачном, звучащем особо, емком, освежающем и розовом. Я быстро пробежал эти мысли, с большим упорством стремясь, — чем тогда, когда я искал причину блаженства и достоверности, с которой оно нисходило, — к некогда отложенному поиску. И я угадал эту причину, сравнивая различные блаженства; общее меж ними было то, что я испытывал их разом в этом мгновении и былом; в конце концов прошедшее переполняло настоящее, — я колебался, не ведая, в котором из двух времен я живу; да и существо, наслаждавшееся во мне этими впечатлениями, испытывало их в каком-то общем былому и настоящему веществе, в чем-то вневременном, — это существо рождалось, когда настоящее и прошедшее совпадали, только тогда, когда оно оказывалось в своей единственной жизненной среде, где оно дышало, питалось эссенцией вещей, то есть — вне времени. Этим и объясняется, что в тот момент, когда я подсознательно узнал вкус мадленки, мысль о смерти оставила меня, поскольку существо, которым я тогда стал, было вневременным, и, следовательно, его не тревожили превратности грядущего. Это существо всегда являлось мне вне реального действия и непосредственного наслаждения, всякий раз, когда чудо аналогии выталкивало меня из времени. Только это чудо было в силах помочь мне обрести былые дни, Потерянное Время, тогда как усилия памяти и интеллекта неизбежно терпели крах.