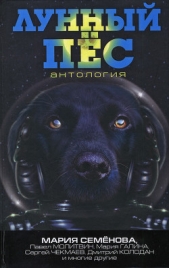Сын колодца
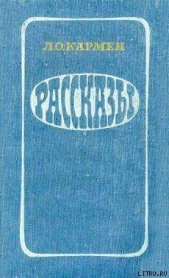
Сын колодца читать книгу онлайн
В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват… Его все знали в Одессе, знали и любили». И… забыли?..
Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измордованным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– У, бесстыжие! – говаривали всегда, проходя мимо, слободские жены, отличавшиеся патриархальными нравами, и звонко сплевывали, а мужья их, напротив, гоготали и отпускали всяческие остроты.
Домик этот принадлежал Вавиле Дорофееву, бывшему тяжчику, нажившему капиталы «на браке» и прочих фокусах, на соках каменоломщиков и известному больше под именем «пиявки».
Иван загляделся на этот домик и подумал:
«Вот если бы у этого родился сын, он не тужил бы!..»
– Ты еще здесь?! – услышал вдруг Иван знакомый голос.
Он быстро повернулся и столкнулся с сестрой.
– А я думала, что ты давно ушел, – проговорила она, качая укоризненно головой. – Стыдись! Жена больна… сын… дома ни копейки!..
– Куда же пойти! – забормотал он. – Иду, иду!..
Все дороги ведут в Рим, только дороги каменоломщиков – к Петру.
Иван после долгого колебания пошел к нему, и тот опять не отказал ему, дал пять рублей…
Скромно были отпразднованы крестины новорожденного Александра.
На крестины были приглашены Иваном и Женей два пильщика из «думского» колодца и постоялец Федор.
Крестными были брат Митрий и Аглая Трофимовна Панталонкина – важная старушка в черном старомодном платке, с гладко причесанными волосами, в мантильке из плюша и кружевной наколке. Она с особым шиком и достоинством, когда ей подсунули акт о рождении, расписалась под жирным крестом Митрия: «Дворянка, вдова губернского секретаря».
Как водится, гости раздавили три пузана водки и «четыре пива», закусили керченской селедкой, колбасой и пирогом, изготовленным дворянскими ручками Аглаи Трофимовны, многократно лобызались и желали «всего, всего, дай боже», пропели хором «Вниз да по матушке по Во-о-лге», а после «Ой, за гаем, гаем!» под аккомпанемент Митрия на гармонике.
В заключение Иван из-за пустяков поссорился с Митрием; Митрий утверждал, что «апонцы» и жиды – одно и то же, Иван отрицал.
Слово за слово, Иван обозвал Митрия «рваным сапогом», а тот его «лапацаном».
– Кто «лапацан»?! – вскипел Иван.
Скандал разгорелся, и, если бы не вмешательство Жени, он завершился бы потасовкой.
Со дня крестин прошло два месяца.
Варя давно уже поднялась с постели и занималась своей торговлей. Она с утра уходила на рынок, нагруженная двумя громадными корзинами с зеленью.
Она – на базар, Иван – в каменоломню.
Что касается Санечки, то она поручила его вниманию соседей и бойкого, смешливого племяша Пимки.
Пимка присматривал за ним, а она, как только урвет минуточку, бежит домой.
Она прибежит, вся запыхавшись, вся в поту, бледная, с трепещущим сердцем и онемевшими от корзин руками, наскоро, на курьерских, покормит его, чмокнет раз-другой в лоб или щечку, перепеленает, прольет над ним слезу, промолвит: «И зачем ты в бедноте родился», и опять марш на рынок.
Пимка снова заступает ее место. Сидит на корточках у корыта, где барахтается и визжит, как поросенок, Санька, с нахмуренным челом, на котором отпечатано сознание важности возложенной на него миссии, качает и напевает классическое, слободское «Зетце!» – «Бей!».
Или напевает излюбленную песнь слободских блатных – воров «Дрейфуса».
А Варя тем временем разоряется, орет охрипшим голосом на весь рынок:
– Петрушка «гейша»!.. Сельдерей «падеспань»!.. Капуста «кекуок»!.. Помидоры «Мукден»… Пожалуйте, мадамочки, красавицы!..
Счастливую противоположность Варе представляла Екатерина Петровна Хвостова, живущая в одном доме с нею.
В девушках она работала на пробочном заводе и все заработанное отдавала родным. Печальное будущее ожидало ее. Но случилось так, что она познакомилась на народном балу с артельщиком из банка. Он воспылал и сочетался с нею.
Родиониха своим своеобразным языком вот как передавала историю их знакомства и женитьбы:
– Ну, значит, встретились они на балу. Она пондравилась ему. А она пондравиться может, танцует – мое почтение. Он ее на падеспань, потом на краковляк. А апосля танцев в буфет. «Не хотите ли, барышня, пирожное или апильцина?» – «Благодарствуйте! Не хочу», – отвечает и глазки книзу. Умница! Это ему пондравилось. Скромная, значит, семейственная, не то что другая – жадная: «Ах, пирожное! С нашим удовольствием!..» Одначе он уговорил ее чай внакладку пить. После чаю они опять два краковляка протанцевали. На другой день он ей свидание возле городской авдитории назначил и тут же ей, как полагается, коробку с мон-пасьенами, и пошло у них, пошло!..
Весь переулок завидовал Екатерине Петровне. И было чему.
Она жила, как княгиня, в двух комнатах с кухней. Комнаты были оклеены светлыми обоями, в одной стоял буфет с чайным сервизом, большой круглый стол и этажерка, а в другой – двухспальная кровать с двумя горками подушек и подушечек.
Три недели назад она благополучно разрешилась девочкой – Фелицатой. И надо было видеть, как ока ухаживала за нею. По двадцать раз меняла пеленки, одеяльца, купала ее, убирала в кружевные чепчики.
Когда она садилась в окна, расстегнув халат, и кормила свою лялечку белой, как сахар, грудью, все соседки и дворничиха собирались под окном и любовались ею.
– Ну, андель, – говорила в умилении дворничиха.
И точно ангел. Щечки розовые, носик точеный, глазки как маслинки, волосы гейшей, в ушках серьги, на пальчике обручальное колечко. Она и в душе была ангелом. Помочь кому – бедной невесте ли, нищему – она первая. Двугривенный, а то и тридцать копеек отвалит. И никому от нее отказу. Персияшка зайдет во двор с обезьянкой, чехи с арфой и скрипкой, шарманщик – она обязательно завернет в бумажку две-три копейки и выбросит в окно.
Особенно нежна была она к соседям. Когда Варя родила, она сейчас же два фунта сахару, осьмушку чаю и фунт мыла отправила ей и, как только, бывало, услышит отчаянный крик Саньки, оставляет свою Фели-цату на руках матери и бежит к нему. Она извлечет его из тряпок и, присев на край кровати, покормит грудью.
Санька смеется ей в глаза и от удовольствия фыркает, как жеребенок. Молоко ее не похоже на жижицу, которой кормит его мать. От него несет не то резедой, не то фиалкой, и сладкое оно такое.
И хохотала же Екатерина Петровна, господи, когда ей приходилось отнимать Саньку от груди.
Он вцепляется руками в ее лиф, прическу и орет.
– Пусти! – смеется она, – Надо ведь и лялечке оставить немного.
Но он не принимал никаких резонов и впивался глубже в ее прическу.
Пимка, все время скромно смотревший на эту сцену из угла, вставал, подходил и говорил Саньке, смачно утирая руками нос:
– Да ну, будет, товарищ! Зекс – довольно! Слышишь?! А то рыбы дам! – И он давал ему леща.
И только таким манером ей удавалось освободиться от него.
Варя после каждого такого посещения ее являлась к ней и целовала ей руки.
Саньке четыре года. У него большая голова, зеленоватое лицо, круглые, как у совы, глаза и рахитичная грудь, руки и ноги.
Сегодня в первый раз он выглянул самостоятельно во двор.
К нему подскочил Валя Башибузук:
– Давай в квач-квач играть!
– Я не умею.
– Дурачок!
Он сделал из большого и указательного пальца бублик и пояснил:
– Я плюю в эту дырочку. Если заденет палец, ты даешь мне по уху, а нет – я тебе.
– У-у! – мотнул Санька головой.
– Я плюю! – объявил Валя и запел: – Квач-квач, дай калач! Видишь? Чиста ручка, как петрушка.
Не успел Санька моргнуть, как что-то здорово огрело его по уху. Он заорал.