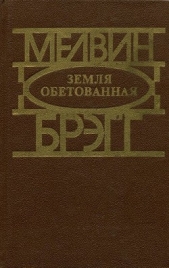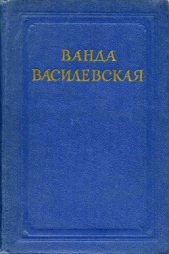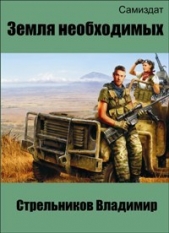Земля обетованная
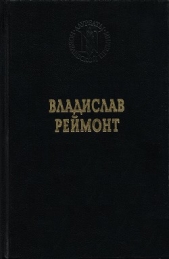
Земля обетованная читать книгу онлайн
Действие романа классика польской литературы лауреата Нобелевской премии Владислава Реймонта (1867–1925) «Земля обетованная» происходит в промышленной Лодзи во второй половине XIX в. Писатель рисует яркие картины быта и нравов польского общества, вступившего на путь капитализма. В центре сюжета — три друга Кароль Боровецкий, Макс Баум и Мориц Вельт, начинающие собственное дело — строительство текстильной фабрики. Вокруг этого и разворачиваются главные события романа, плетется интрига, в которую вовлекаются десятки персонажей: фабриканты, банкиры, купцы и перекупщики, инженеры, рабочие, конторщики, врачи, светские дамы и девицы на выданье. Из шумных цехов писатель ведет читателя в роскошные дворцы богачей, в пивные, где дельцы предаются пьяным оргиям, будуары светских львиц, делает его свидетелем деловых встреч и любовных сцен.
Публикуется новый перевод романа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На фабрике он завтракал и проводил время до полудня, а после обеда если не выезжал в город, то ходил по конторам, складам тканей и хлопка.
Жизнь ему была не мила вдали от этого могучего царства, которое он создал трудом многих лет и силой своего предпринимательского гения; ему надо было всем своим телом ощущать эти обшарпанные, сотрясающиеся стены; лишь тогда он чувствовал себя хорошо, когда пробирался среди сети трансмиссий и приводных ремней, оплетавших всю фабрику, когда вдыхал едкие запахи красок, отбеливателей, сырых тканей и слышал фабричные шумы в раскаленном воздухе.
Теперь он сидел в печатном цеху и, полуприкрыв глаза, смотрел в зал, хорошо освещенный большими окнами, смотрел на движущиеся печатные станки, эти железные пирамиды, работающие быстро и в какой-то зловещей тишине.
При каждом «печатнике» был особый паровой двигатель, чье маховое колесо вращалось со свистом, — как серебряные, блестящие круглые щиты, эти колеса мелькали с такой бешеной скоростью, что невозможно было разглядеть их очертания, виден был лишь серебристый нимб, который вращался вокруг своей оси, рассеивая светящийся, искристый туман.
Машины работали с не ослабевающей ни на миг быстротой; бесконечно длинные полосы тканей проходили между медными вальцами, печатавшими на них цветной рисунок, и исчезали где-то вверху, на верхнем этаже, в сушилке.
Рабочие, подсовывавшие с тыла в машину ткани для нанесения рисунка, двигались сонно, а мастера стояли перед машинами, и ежеминутно кто-то из них нагибался, приглядывался к вальцам, подливал краску из больших чанов, осматривал ткань, затем распрямлялся и снова, не отводя глаз, принимался смотреть на эти тысячеметровые полосы, скользившие с немыслимой скоростью.
Боровецкий заглядывал в печатный цех, чтобы проследить за работой недавно смонтированных машин, сравнивал образцы свежеоттиснутых рисунков, давал советы, иногда по его знаку работающую громадину останавливали, он тщательно ее осматривал и шел дальше мощный ритм фабрики, сотни машин, тысячи людей, следящих за их работой с неослабным, почти благоговейным вниманием, горы тканей, лежащих на полу, перевозимых на тележках, движущихся через цеха из прачечного в красильный, из красильного в сушилку, оттуда в аппретуру и еще в десяток других мест, пока не выйдут из стен фабрики готовыми, — все это захватывало его.
Лишь недолгие минуты сидел он в своем кабинетике рядом с «кухней» и там, отрываясь порой от комбинирования новых рисунков, от рассматривания присланных из-за границы образцов в огромных альбомах, громоздившихся на столах, он задумывался — вернее, пытался думать — о себе, о проекте фабрики, который они с приятелями лелеяли, но все не мог собраться с мыслями, сосредоточиться — фабрика, шум которой слышался и в его кабинете, а движение и ритм проникали в его нервы, отдавались даже в биении пульса, не позволяла уединиться, властно вовлекала, вынуждала служить ей и повиноваться каждого, кто попадал в ее орбиту.
Боровецкий то и дело вскакивал и опять куда-то бежал, но день для него тянулся мучительно долго, — лишь около четырех часов пополудни он пошел в контору, находившуюся при другом цехе, чтобы выпить чаю и позвонить Морицу, напомнить, чтобы тот сегодня был в театре на благотворительном любительском спектакле.
— Всего с полчаса, как от нас ушел пан Вельт.
— Он был здесь?
— Взял пятьдесят штук белого товара.
— Для себя?
— Нет, по поручению Амфилова, в Харьков. Могу вам предложить сигару?
— Спасибо. С удовольствием покурю, я чертовски устал.
Он закурил и сел на высокий стул перед письменным столом.
Главный бухгалтер конторы, почтительно угостивший его сигарой, стоял перед ним, набивая табаком свою трубку, а несколько юнцов, восседавших на высоких табуретах, что-то писали в больших, с красными линейками, амбарных книгах.
Царившая в конторе тишина, нарушаемая лишь неприятным скрипом перьев и однообразным попыхиванием куривших, раздражала Боровецкого.
— Что нового, пан Шварц? — спросил он.
— Розенберг обанкротился.
— Совсем?
— Еще неизвестно, но я думаю, он будет договариваться, иначе что за интерес просто объявлять себя банкротом? — тихо засмеялся пан Шварц и прижал пальцем влажный табак в трубке.
— Наша фирма много теряет?
— Это зависит от того, какой процент он будет платить за сто.
— Бухольц знает?
— Сегодня он у нас еще не был, но когда узнает, ему станет плохо, — он очень чувствителен к убыткам.
— Как бы его удар не хватил, — прошептал кто-то из склонившихся над амбарными книгами.
— Жаль было бы!
— Очень жаль, упаси Бог!
— Пусть живет сто лет, пусть будет у него сто дворцов, сто миллионов, сто фабрик.
— И заодно пусть сто чертей его унесут! — опять прошептал кто-то из юнцов.
Стало совсем тихо.
Шварц грозно взглянул на писавших, потом на Боровецкого, словно желая оправдаться, что он, мол, тут не виноват, но Боровецкий со скучающим видом смотрел в окно.
Атмосфера гнетущей скуки снова воцарилась в конторе. Уныло желтели стены с деревянными, крашенными под дуб панелями до самого потолка, вдоль стен стояли полки с рядами бухгалтерских книг.
Напротив окна конторы высилось большое пятиэтажное здание из красного неоштукатуренного кирпича, от его стен на все помещение конторы ложился зловещий красноватый отсвет.
Через асфальтированный двор, по которому то и дело со стуком проезжали повозки и проходили люди, на уровне второго этажа во все стороны расходились толстые, как руки атлета, трансмиссии, от их глухого гула оконные стекла в конторе непрерывно дребезжали.
Небо нависало над фабрикой тяжелой, грязной пеленой, из которой капал мелкий дождь, по грязным стенам текли еще более грязные струи, — будто тошнотворные плевки, они прочерчивали оконные стекла, покрытые налетом пыли от угля и от хлопка.
В углу на газовой плите зашумел чайник.
— Не угостите ли меня чаем, пан Горн?
— А может, вы, пан инженер, изволите съесть бутербродец? — любезно предложил пан Шварц.
— Только он кошерный, — съязвил Горн.
— Значит, он вкуснее, чем те, что едите вы, пан фон Горн!
Горн подал чай и на минутку задержался у стола.
— Что с вами? — спросил Боровецкий, знавший его довольно близко.
— Ничего, — коротко ответил тот и окинул ненавидящим взглядом Шварца, который разворачивал газету с бутербродами и выкладывал их перед Боровецким.
— Вы очень неважно выглядите.
— Пану Горну служба на фабрике не впрок. После гостиных ему трудно привыкнуть к конторе и к работе.
— Конечно, скоту или какому-нибудь ничтожеству легко привыкнуть к ярму, а человеку труднее, — прошипел фон Горн со злобой, но так тихо, что Шварц не расслышал его слов и, бессмысленно усмехаясь, проговорил:
— Пан фон Горн! Пан фон Горн! Попробуйте, пан инженер, тут, знаете ли, комбинация колбасы с пуляркой, моя жена на это большая искусница.
Горн отошел от них и сел за свой стол, глаза его блуждали по красной кирпичной стене, по окнам, за которыми белели кипы растрепанного, подготовленного для прядения хлопка.
— Налейте-ка мне еще чаю.
Боровецкому хотелось выведать, что у Горна на душе.
Горн принес чай и, не подымая глаз, повернулся, чтобы отойти.
— Не заглянете ли, пан Горн, ко мне через полчасика?
— Хорошо, пан инженер. У меня даже есть к вам дело, и я собирался завтра к вам зайти. А может, вы меня теперь выслушаете?
Горн хотел что-то сказать потихоньку, но тут в комнату вошла женщина, толкая перед собой четырех ребятишек.
— Слава Иисусу Христу! — проговорила она, окинула взглядом все обернувшиеся к ней лица и смиренно поклонилась в ноги Боровецкому, потому что он сидел ближе всех и с виду был представительнее прочих.
— Ваше благородие, вельможный пан, вот пришла я с просьбой — мужу моему голову в машине оторвало, и осталась я теперь нищей сиротою с детками, бедствуем мы. Пришла к вам просить справедливости, чтобы вельможный пан дал мне хоть какое-то вспомоществование, потому как мужу моему голову в машине оторвало. Ваше благородие, вельможный пан, — и, разражаясь плачем, она опять склонилась к коленям Боровецкого.