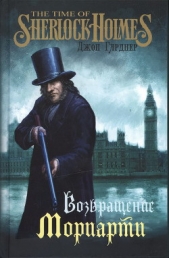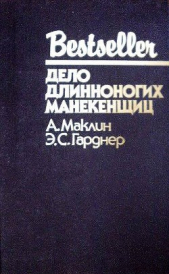Крушение Агатона. Грендель

Крушение Агатона. Грендель читать книгу онлайн
Два знаменитых романа одного из самых ярких представителей современной литературы США Дж. Ч. Гарднера (1933–1982), погибшего в автокатастрофе. На уникальном материале автор строит занимательные сюжеты, пронизанные размышлениями о человеке и его предназначении.
Действие романа «Крушение Агатона» происходит в Древней Спарте, обретающей могущество под властью Ликурга. В «Гренделе» изложен сюжетный эпизод из «Беовульфа», англосаксонской эпической поэмы VIII века, с точки зрения ужасного чудовища Гренделя. В обоих произведениях, ВПЕРВЫЕ переведенных на русский язык, затрагиваются коренные проблемы человеческого бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Бедный Агатон. — После долгого молчания она улыбнулась и твердо встретила мой взгляд, словно говорила этим больше, чем могли сказать слова. — Ты был прав.
Я покачал головой, в панике отводя глаза. Я видел, как она разговаривает с мужчинами на вечеринках: будто каждый, с кем она говорила, был лучшим мужчиной в мире. Я видел, как она, встретившись с незнакомцами, могла заставить их в считанные минуты открыть перед ней свою душу. Я видел, как она танцует с мужчинами на праздниках. («Я всего лишь позволяю другим мужчинам поцеловать меня в щеку, — как-то сказала она. — Ты ведь знаешь». Откуда я мог это знать? Я присутствовал далеко не на всех вечеринках.) У нее были братья. Она чувствовала, как бьется пульс мужчины, из противоположного угла комнаты.
— Я был прав, — повторил я. Приятно было бы так думать. Но я сделал это импульсивно, под влиянием порыва. Кто знает, что меня толкнуло? Это могла быть просто ревность — к Туке или даже к Клинию. Могла быть обида: мне никогда не удавалось опровергнуть его паршивые аргументы насчет материальной выгоды. А здесь я побил его раз и навсегда, сделав патриотизм, преданность Солону и бог знает что еще ответом на весь его материализм. А может быть, таково было мое «я». Поступая подобным образом, я как бы становился другим человеком с другим характером. А может, это было стремление к власти. Я сразил предателя и заслужил аплодисменты Афин.
— Это все ерунда, — произнесла она. Я заставлял ее нервничать, она потеряла нить разговора и чувствовала себя неловко.
— Это ты так считаешь. Может, и так. Я знаю только, что под влиянием порыва предупредил о заговоре — и тут же пожалел об этом, хотя целых два дня не говорил Конону, что его враги предупреждены. Когда наступило время, которое он назначил для выполнения своего замысла, невесть откуда появилась стража и разоружила его. Конон глядел на меня, пытаясь улыбнуться, но его лицо лишь дергалось, как у обезьяны.
В комнате стало тихо. Она смотрела на меня, переполняемая неким чувством, которое я не мог прочесть. Я пытался думать о том, что я на самом деле чувствую в связи с моим предательством, и обнаружил, что не чувствую ничего. Она, похоже, любила меня: любовь или радость завоевания сияли над ней как ореол. Если так, то была ли это радостная любовь матери или образ моей собственной души; а может, это любовь бесконечно терпимой, усталой богини? Странное видение: Иона, запертая в какой-то комнате, словно золото, которое запирают сардийцы, — промелькнуло в моем мозгу.
— О чем ты думаешь? — спросил я.
Она рассмеялась — взрыв бушующих мыслей, которые я не мог угадать, — сбросила ноги с кушетки и наклонилась вперед, упираясь локтями в колени.
— Я думаю, мы невероятно разные люди, — сказала она, — и невероятно похожие.
— Как это? — спросил я.
— У тебя есть свободное время? Примерно девять миллионов лет?
Я тоже засмеялся. Но мне нужен был ответ, окончательный и уверенный, как удар грома.
— В чем мы различны?
Иона укрылась за иронической маской, которой так хорошо умела пользоваться.
— Во всем, — сказала она, опуская уголки рта вниз. — Ты собираешь цыплячьи лапки?
— А ты? — спросил я.
Она засмеялась, опустила уголки рта вниз, потом смягчилась, улыбнулась и наконец нахмурилась.
— Поговорим лучше о чем-нибудь другом, — сказала она. Села возле меня на пол и поцеловала в щеку.
Но я думал о ее отце и братьях, про которых она редко рассказывала. Она знала все приемы. Я размяк. Она знала, как стремятся мужчины быть недосягаемо мужественными; как робки они, желая завоевать женщину; как бывают расстроены, услышав «нет». Она могла довести меня до белого каления разговорами о том, что хочет уйти, и могла заставить ощутить такую легкость, что я чувствовал себя не отвергнутым, а могущественным, как бог. Это было чересчур. Я этого не стоил. Я был игрушкой в ее руках. Но, боже, как я ее любил и как желал на самом деле быть этой игрушкой. А что, если так оно и было?
— Что за человек твой отец? — спросил я.
Она села на корточки и задумалась, затем заговорила мягким голосом. Через горную деревушку, где они жили, протекала река с быстрым течением. Поток перекатывал большие острые камни, и отец Ионы наблюдал за ним с суровым одобрением. Всю свою жизнь он был силен и неистов, как лев, но он не ожесточился до тех пор, пока мать Ионы не бросила его, когда подросли дети, и не ушла с каким-то прорицателем с далеких северных холмов. Только тогда отец Ионы превратился в сварливого старика-человеконенавистника.
Я накрыл ее руку своей.
— Ты похожа на него? — спросил я.
— Смешно, — сказала она, усмехаясь.
Возможно, она и не была на него похожа, мне трудно судить, но его образ, словно вырезанный из камня, она хранила в своем сердце.
— Мне пора идти, — произнес я.
Через неуловимый миг она кивнула, чуть задыхаясь.
Я поднялся, опираясь на костыль.
— Я засиделся. Прости. — Я протянул руку, чтобы помочь ей встать, и после секундного колебания она приняла ее. Она проводила меня до двери, не произнеся ни слова. Рассердилась? Я прислонился к дверному косяку, как всегда делал, уходя от нее, — рука на двери, но тело в нерешительности — и наблюдал за ее лицом, раздумывая, не поцеловать ли ее. Она тоже наблюдала за мной, но думала, вероятно, о чем-то другом, прислонившись к косяку напротив меня. Мы смотрели друг другу в глаза. Мне думалось, лучше бы мы разработали некий ритуал или решили все вопросы, улегшись в постель. Но против этого восставала наша метафизика или как это там называется. Наконец она придвинулась ко мне и обвила меня руками.
— Ты хороший человек, Агатон.
— Кто знает? — Я поцеловал ее. Как всегда, этого оказалось недостаточно. Я прижал ее крепче, мои руки скользнули по узкой гладкой спине и легли ей на бедра. Затем я, как обычно, помедлил, и мы подождали знака, который ни один из нас — истинные демократы — самостоятельно не подал бы, этим все и кончилось до следующей встречи. И как всегда, когда я вышел от нее, улицы были прекрасны. Цветы, птицы, солнечный свет — все словно потеряло рассудок.
Для Туки это было ужасное время. Я никогда не рассказывал ей о своих визитах к Ионе, не столько из-за трусости (хотя своей трусости не отрицаю), сколько из желания избавить ее от ненужных страданий. Но она узнавала о них — или о некоторых из них. Когда наши семьи оказывались вместе, Иона иногда демонстрировала знание таких вещей, о которых не должна была бы знать; а Тука легко и небрежно задавала вопросы, и Иона как можно непринужденнее, но имея при этом до чертиков виноватый вид, вспоминала, что я как-то об этом упоминал. Туку это приводило в ярость и немного пугало, хотя она старалась не показывать этого Доркису и Ионе. «Агатон, они ведь практически рабы», — говорила она. Это было худшее, что она могла сказать, и мое полное равнодушие к этим дурацким и произвольным условностям раздражало Туку до предела. «Как ты думаешь, что говорят о нас люди? — спрашивала она. — Ты, должно быть, спятил!» Но она также знала, насколько безразлично я отношусь к глупостям, которые говорят люди. Она любила общество, беседу ради самой беседы; для меня Спарта была возможностью укрыться от всего этого. Там не было ничего в ее духе или в моем. Спартанцы, которых я считал недочеловеками, были нашими предполагаемыми начальниками. Немногие афиняне, жившие в Спарте, были жучками черного рынка. Тука подмигивала им всем, разыгрывая аристократическую даму в навозной куче, которая в ее воображении представлялась старыми элегантными Афинами. Почему она поехала со мной в Спарту — не могу сказать. Она почти осталась дома. Когда приехала повозка, которая должна была увезти нас из Афин, Тука уселась в своей комнате и отказалась двинуться с места. Я дал ей десять минут и вышел к повозке подождать. В конце концов она пришла, плача от ярости. Но со временем она приняла новый образ жизни в Спарте. Наши три комнаты во дворце она превратила в точную имитацию Афин, а с помощью своей арфы и своего кулинарного искусства создала подобие афинского общества. Она понимала, что это временно. Сколько всего мы должны будем рассказать, когда вернемся домой! В этом смысле даже мое общение с илотами было приемлемо. И нельзя сказать, что ей так уж не нравились мои друзья-илоты. Когда она ощущала свое благородство — то есть когда она чувствовала, что безраздельно владеет мной и, таким образом, находится в безопасности, — она могла понять, что илоты — просто жертвы; она сама могла быть рабыней, если бы Спарта как-нибудь удосужилась захватить Афины. И, будучи афинянкой, она знала рабов из Коринфа, которые раньше были аристократическими господами. На самом деле поначалу ей очень нравились Доркис и Иона. Иона могла бы стать ее лучшей подругой, если б я не впутался между ними. Теперь же она страшилась уходить из дому, боясь, что может появиться Иона, и боялась отпускать меня утром из страха, что я могу пойти к Ионе.