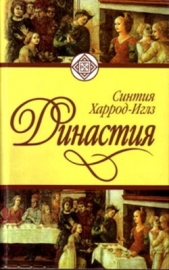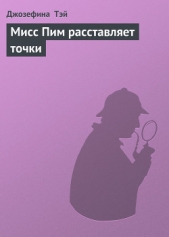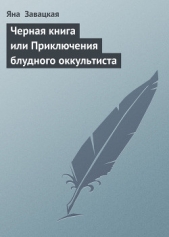Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь

Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь читать книгу онлайн
В последнем романе английского писателя Э. Бульвер-Литтона (1803–1873 гг.) "Кенелм Чиллингли" сочетаются романтика и критический реализм.
Это история молодого человека середины XIX столетия: мыслящего, благородного, сознающего свое бессилие и душевно терзающегося. А. М. Горький видел в герое этого романа человека, в высшей степени симптоматичного для своей эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кенелм только что дошел до разрешения своих недоумений, когда услышал голос, который пел, вернее декламировал, под музыку. Получалось нечто средне" между речитативом к пением, очень приятное для слуха, так как интонации были чисты и музыкальны. Кенелм различал каждое слово песни:
Тихое счастье
Когда голос замолк, Кенелм поднял голову. Но берега ручья были так извилисты и так густо поросли кустарником, что певец еще несколько минут оставался невидимым. Наконец ветви раздвинулись, и в нескольких шагах от Кенелма остановился человек — тот самый, которому он советовал воспевать бифштекс вместо восхваления, — по издавна принятому заблуждению — любви.
— Рад вас встретить снова, — сказал Кенелм, привстав. — Скажите, случалось ли вам прислушиваться к голосу кукушки?
— А случалось ли вам, сэр, ощущать лето? — вопросом на вопрос ответил ему певец.
— Позвольте пожать вам руку. Я восхищен вопросом, которым вы ответили и отплатили мне за мой. Если вы не торопитесь, сядем и потолкуем.
Певец кивнул в знак согласия и сел. Его собака, вышедшая теперь из кустарника, важно подошла к Кенелму, посмотревшему на нее с еще большей важностью, потом повиляла хвостом и села, навострив уши и настороженно прислушиваясь к легкому движению в камышах, очевидно соображая, кто бы это там мог быть — рыба или водяная крыса.
— Я не из пустого любопытства спросил вас, случалось ли вам прислушиваться к голосу кукушки. Часто бывает, когда в летние дни говоришь с собой и, разумеется, сам себе дивишься, вдруг раздается голос, точно из недр самой природы, так далек он и все-таки близок. И говорит он так успокоительно, сладкозвучно, что хочется воскликнуть в обманчивом порыве: "Природа отвечает мне!" Кукушка не раз так дурачила меня. Но ваша песня лучше ответила на мои мысленные вопросы, чем это могла бы сделать кукушка.
— Не сомневаюсь, — заметил певец. — Песня, в сущности, всего лишь эхо голоса из недр природы. Если же вы нехитрую песенку кукушки приняли за голос природы, она, быть может, действительно отвечала на ваши вопросы, и язык такой песенки проще и правдивее человеческого — надо только научиться понимать его.
— Мой добрый друг, — сказал Кенелм, — ваши слова звучат очень мило. В них заключено чувство, которое известные критики раздули в головах болванов до того, что оно стало просто вздором. Но хотя природа никогда не бывает безмолвна и даже злоупотребляет правом старости быть утомительно болтливой, она никогда не отвечает на наши вопросы, не донимает никаких доводов и не читала «Логики» Милля [81]. Справедливо сказал великий философ: "Природа не имеет разума". Каждый, кто обращается к ней, на миг наделяет ее разумом. И если она отвечает на его вопрос, то не иначе, как по внушению его же ума, то есть как попугай. А так как у людей разные взгляды, все и получают разные ответы. Природа — старая лгунья.
Менестрель весело засмеялся, и смех его звучал так же приятно, как его пение.
— Поэтам пришлось бы многое забыть, если б они смотрели на природу с вашей точки зрения.
— Плохим поэтам — да. Впрочем, это было бы на пользу и им самим и их читателям.
— Но разве хорошие поэты не изучают природы?
— Бесспорно, изучают — как хирург познает анатомию, вскрывая труп. Хороший поэт, как и хороший хирург, видит в этом изучении неизбежную азбуку, но отнюдь не совокупность всех знаний, необходимых для практического искусства. Я не признаю славы хорошего хирурга за тем, кто наполнит целую книгу более или менее точным рассмотрением тканей, нервов и мышц. И я не признаю славы хорошего поэта за тем, кто перечислит достопримечательности Рейна или долины Глостера. Хороший врач и хороший поэт — это те, кто знает живого человека. В чем заключается поэзия драмы, которую Аристотель справедливо ставит выше всякой другой поэзии [82]? Разве это не такая поэзия, в которой описание неодушевленной природы по необходимости кратко и бегло, и даже внешность человека — вопрос настолько ничтожный, что она меняется с каждым новым актером, исполняющим роль? Гамлет может быть белокурым, а может быть и черноволосым; Макбет может быть и малого и большого роста. Достоинство драматической поэзии связано с заменой того, что обычно называют природой (то есть внешней, вещественной природой), существами разумными, одушевленными и до такой степени бесплотными, что они как бы состоят из одного духа, принимающего временно первую попавшуюся телесную оболочку, какую может им дать актер, чтоб сделаться осязаемыми и видимыми для зрителей, но не нуждающимися в подобной оболочке, чтобы быть осязаемыми и видимыми для читателей. Поэтому поэзия выше всего тогда, когда в ней меньше всего идет речь о внешней природе. Но каждый вид ее имеет свои достоинства, смотря по тому, как влагается в природу то, чего в ней нет, — разум и чувство человека.
— Я не разделяю вашего мнения, — возразил певец, — о том, что какой-либо один вид поэзии выше другого. Нельзя признать, что поэт средней руки, избравший своей областью высший вид поэзии, стал тем самым выше того, кто избрал, по вашему определению, низший вид ее, но в нем показал себя гением. В теории драматическая поэзия может быть выше лирической, и "Спасенная Венеция" — очень хорошая драма. Там не менее Бернса я ставлю выше Отвея [83].
— Что ж, пожалуй, он и выше. Но я не знаю лирика, по крайней мере среди современных поэтов, который так мало говорил бы о природе, видя в ней всего лишь наружную сторону вещей, и с такой страстностью одушевлял ее своим собственным человеческим сердцем, как Роберт Бернс. Думаете ли вы, что, когда грек, пытаясь разрешить сомнения совести или рассудка, вопрошал прорицающие дубовые листья Додоны [84], именно они и отвечали ему? Не кажется ли вам, что ответ на самом деле исходил от такого же, как этот грек, человека, от жреца, для которого дубовые листья служили лишь средством общения, как мы с вами пользуемся для этой же цели листом бумаги? Разве вся история суеверий не хроника безумств человека, пытающегося добиться ответа от внешней природы?
— Однако, — возразил собеседник, — не приходилось ли мне где-то слышать или читать, что опыты науки — это ответы природы на вопросы, заданные ей человеком?
— Это ответы, подсказанные природе его собственным умом, и ничего более. Ум человека изучает законы материи и при этом изучении производит опыты над ней. Из этих опытов он, согласно приобретенным уже сведениям или врожденной сметливости, выводит свои собственные заключения. Так возникли механика, химия и так далее. Но материя сама по себе не дает ответа, который меняется в зависимости от ума, задающего вопрос. Успехи науки состоят в беспрерывном исправлении ошибок и заблуждений, принятых предшественниками за достоверные ответы природы. Только сверхъестественное в нас самих, а именно дух, может угадывать механизм естественного, то есть материи. Камень не может вопрошать другой камень.