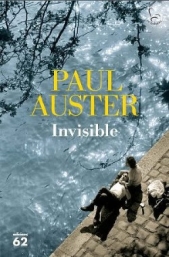Невидимый

Невидимый читать книгу онлайн
Ярослав Гавличек (1896–1943) — крупный чешский прозаик 30—40-х годов, мастер психологического портрета. Роман «Невидимый» (1937) — первое произведение писателя, выходящее на русском языке, — значительное социально-философское полотно, повествующее об истории распада и вырождения семьи фабриканта Хайна.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В тишине, непременном условии успеха, я слышал, словно тиканье будильника, биение маленького горячего сердечка. Я весь сосредоточился на наслаждении — прикасаться к милому телу Кати.
Соня водила семь раз, я слышал, как уже дрожит ее голосок при счете, видел, что она вот-вот расплачется. Быть может, если б я сделал раньше то, что сделал, ситуация была бы спасена, но Кати этого не хотела, а мне было так хорошо от ее близости. Когда Соня в восьмой раз прокрадывалась под нашим убежищем, я громко и неестественно кашлянул, одновременно крепче прижав к себе Кати, словно просил прощения за это маленькое предательство. Соня моментально взглянула вверх — и я увидел, как лицо ее, и так-то бледное и грустное от ребяческой досады, побледнело еще больше, оно стало почти белым. Но она тут же овладела собой. Будто лишь случайно глянув на вершину липы, будто не заметив нас, она медленно, осмотрительно — разве только чуть нерешительнее, чем прежде, — двинулась дальше, а я не находил в себе решимости спрыгнуть с дерева и побежать «выручаться». Я вдруг понял, что игра кончена, кончены шутки, наступает тягостная развязка — чего, в общем, и следовало ожидать после такого смеха и буйства.
— Да вы не расстраивайтесь! — горячо уговаривала меня Кати, прочитав досаду на моем лице. — Ведь это просто шутка! И вы не виноваты, что она как малый ребенок — взяла да и обозлилась… Ей бы засмеяться, а не обидеться!
Я хорошо видел сквозь листву, как Соня украдкой оглянулась, желая убедиться, что никто не слез с дерева; потом она замедлила шаг, поправила волосы, стряхнула с платья капли влаги и паутину — и пошла назад к открытой задней двери виллы.
Ужинать она не вышла. После ужина компанию мне составил Хайн, чего обычно не случалось. Это означало, что он посвящен в дело. Но он был на моей стороне, я понял это по тому, что он пробурчал что-то насчет теневых сторон женской любви и рассказал, как когда-то Сонина мать рассердилась на него за такую же ерунду.
— Она, знаете ли, была гораздо, гораздо темпераментнее Сони, упряма до болезненности и горе свое преувеличивала самым театральным образом. Когда она впадала в мрачность, к ней было не подступиться. К сожалению, я не умел отвечать на ее странности в желательной для нее манере, и она наказывала меня за мое неумение приспособиться к ней прямо-таки утонченной жестокостью. Но вы не беспокойтесь, — поспешил он прибавить, — у Сони не ее характер. Есть некоторые следы, которые я, кажется, распознаю, а скорее — причуды избалованной девицы, но в остальном Соня вся наша, хайновская, девушка искренняя, глубоко чувствующая, быть может, чересчур добросовестная во всех отношениях. Эта ребяческая выходка — просто от горячего сердца. С ней так бывает: заметит, допустим, какую-нибудь неприятную мелочь — и моментально выдумывает самые неправдоподобные причины. Рассеять это можно только спокойным, зрелым объяснением, а вы отлично умеете это делать. Ну, что там Соня? — спросил он у вошедшей Кати, как всегда веселой и беспечной.
Кати рассмеялась. Не ответив словами, она обвела пальцем голову, спрятала лицо в ладони, изобразила страдальческий взгляд. Это означало: у Сони болит голова, она повязалась мокрым полотенцем и сидит, опершись локтями на рояль. Хайн поднял сигару хорошо знакомым движением, которым он отмахивался от неприятностей, и завел разговор… о заводе.
Но Соня не показалась и на следующий день за обедом. Стало быть, дело серьезнее, чем мы с Хайном думали. Лишь вечером, когда я вернулся с завода и сел в своей комнате почитать газету, в коридоре поднялась возня, словно волокли какое-то бессильное тело, кто-то со смехом постучался ко мне, и одновременно раздался судорожный плач. Это Кати привела Соню, превратившуюся из разгневанной богини в кающуюся грешницу. Кати втолкнула ее ко мне через полуотворенную дверь и ускакала, а у меня в руках оказался мягкий, несчастный комочек, мокрое от слез, некрасивое создание, вид которого гасил во мне всякое мужское чувство.
Тут я узнал, что я очень жестокий, а то не оставил бы ее на целый долгий день одну в горе; это ужасно, что я ни чуточки не поинтересовался ее болезнью, а она просто в отчаянии, так страшно болит у нее голова.
— И как ты мог, Петя, так цинично обниматься с Кати там, на дереве? Извини, это я просто так, я знаю, Кати хорошая и верная и вы там просто прятались, ясно же, кто собирается поступить дурно, тот не дает о себе знать кашлем… Ах, Петя, если б ты только мог избавить меня от этого! Знаешь, разные мысли бегают по мне, как мыши по мертвой кошке… Петя, дядя Кирилл пытался балансировать стулом на подбородке, тебе, наверное, папа рассказывал. Так вот — мне приходится силой удерживать свои руки, чтоб не взяться за стул и не попытаться сделать то же. Петя, это ужасно, Петя, боже мой!..
Мне пришлось много потрудиться, прежде чем я сумел втолковать ей, что так всегда бывает, когда боишься, как бы не сделать какую-нибудь глупость, — так и хочется попробовать. Я сказал ей, что она слишком впечатлительна, у нее все вовсе не так, как она думает; нервность ее — не следствие болезни, а как раз наоборот, все ее бредовые мысли — от нервности.
Понадобилось без малого три дня, чтоб Соня хоть немного оправилась, начала улыбаться без грустной горечи и перестала кидать на меня скорбные и виноватые взгляды. За эти три дня я понял, что быть терпеливым и сочувствовать кому-либо — великое искусство, и удел человека, решившего дойти до намеченной цели, часто похож на удел актера, обязанного в любых обстоятельствах владеть ролью с абсолютной виртуозностью.
Кунц проводил теперь у нас большую часть своего досуга. И приводил с собой племянницу, которой предстояло выступить подружкой на нашей свадьбе. Это была тощая девица с желтыми волосами, которые она на немецкий манер закручивала на темени каким-то замысловатым узлом. Она была устрашающе благовоспитанна и добродетельна. И напоминала скорее деревянную куклу, чем существо из плоти и крови.
Кунц был просто невыносим. Свою роль церемониймейстера он понимал со всей серьезностью и изводил нас всех нелепыми заботами. «Я как шафер», — то и дело повторял он и всякий раз сопровождал эту убогую остроту дребезжащим смехом. Объектом своих забот он избрал главным образом меня. Вообразил, что я более других участников невежественен в свадебных обрядах. Не проходило дня, чтоб Кунц не спросил, собрал ли я уже все документы, заказал ли обручальные кольца, составил ли список знакомых, кому надлежит разослать извещение о бракосочетании. Этим ненужным, прямо-таки оскорбительным допросам не было конца.
Но еще больше занимала его собственная функция распорядителя. Он ломал себе голову, как рассадить гостей за столом, как их разместить по автомобилям, какую заказать музыку при венчании. Раз как-то я увидел у него в руках тщательно вымеренную, вычерченную тушью схему свадебного шествия: от дверей виллы, пара за парой, тянулись кружки с каллиграфически вписанными в них именами. На обороте той же бумажки кружки с именами располагались в обратном порядке — в том, в каком нам надлежало возвращаться из церкви. Вилла изображалась на схеме в виде прямоугольника, церковь — как настоящий картографический план здания, украшенный неизбежным крестом. Просто удивительно, до чего педантично занимался такими вещами этот старый дилетант.
Он очень беспокоился, как бы дружки, свидетель и подружка, которым еще только предстояло приехать, не нарушили чем-нибудь его программу.
— Вы их лучше знаете, этих молодых людей, может быть, они, что называется, несколько неорганизованны? Не явятся ли они со своими столичными замашками?
Кунц ужасно трепетал за свое первенство в устроении обряда и заранее ревновал к пражанам, к которым не питал ничего, кроме презрения, как и всякий коренной провинциал. Но больше всех он заранее невзлюбил пражскую подружку, почти наверняка предвидя, что та начнет заноситься перед его Херминой.
Соня твердила: «Ах, Петя, какой ужас эта свадьба!» — и нередко чуть ли не плакала. Ею полностью завладела портниха, к ней беспрестанно обращались то за тем, то за другим. Соня жаловалась, что совсем потеряла голову, хотя, в сущности, почти ничего не делала. Тетушка была в некотором роде еще хуже Кунца. Она путала прошлое с настоящим, ловко ввертывала в разговор свои воспоминания о давних временах, так что в конце концов невозможно было понять, чего она хочет и что ей, собственно, не нравится. При этом она еще вращала своими пропастными глазищами… И мне опять казалось, что эти глаза гипнотизируют Соню — во всяком случае, та послушно, как лунатик, смотрела в лицо своей двоюродной бабки и кивала головой, а потом спрашивала: «Петя, а что тетушка сказала? Господи, я уже до того одурела, что все забываю!»