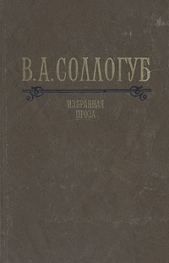Избранная проза

Избранная проза читать книгу онлайн
Людмил Стоянов — один из крупнейших современных болгарских писателей, академик, народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда. Литературная и общественная деятельность Л. Стоянова необыкновенно многосторонняя: он известен как поэт, прозаик, драматург, публицист; в 30-е годы большую роль играла его антифашистская деятельность и пропаганда советской культуры; в наши дни Л. Стоянов — один из активнейших борцов за мир.
Повести и рассказы Л. Стоянова, включенные в настоящий сборник, принадлежат к наиболее заметным достижениям творчества писателя-реалиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты? В чем твоя вина?
Гремит гром. Что-то происходит наверху, в небе. Вот опять. Сквозь веки ощущаю свет молний — они словно пронизывают череп и достигают мозга.
Это бой великанов. Новый удар грома с другой стороны неба, еще более сильный. Начинается!
Вспышки молний и раскаты грома учащаются, скрещиваются исполинские копья, земля дрожит.
Тук! Что-то стукнуло мне в спину. Первая капля.
Значит, я еще не отбыл? Я последний из путников, и караван, должно быть, скоро тронется.
Медленно открываю глаза. Небесные рапиры скрещиваются с глухим металлическим звоном.
Тук, тук, тук! В этом есть что-то веселое. Тук, тук, тук! — словно это стучится сама жизнь.
Буря усиливается, ревет, мчится с цокотом бесчисленной конницы, бухает своей небесной артиллерией. Будто обваливаются горы, рушится мир, — далекие вершины, озаренные внезапным светом, выступают из тьмы, как башни исполинской крепости.
Дождь льет неудержимо… За несколько минут я до нитки промок. По траве несутся потоки, вода, как пьяная, с веселым смехом перекатывается через меня.
А я лежу в луже, не в силах шевельнуть рукой, чтобы защититься от страшного врага!
Вдруг меня осеняет мысль.
Письма в ранце намокли! Вот несчастье! Письма, написанные крупным, неровным почерком, с подписью в конце: «Р».
Да ведь это было совсем недавно, прошло всего два месяца. А может быть, и давно, много веков тому назад. Акации перед балконом отцветают, роняя белые лепестки, и издают тяжелый аромат.
Чья-то тень появляется в окне и подает условный знак. Белое письмо медленно падает на землю. Вот они — целая связка; каждый вечер одно и то же: спешу домой, чтобы прочитать написанное, и затем с улыбкой засыпаю.
Так разве удивительно, что она пришла сюда, что я слышу ее шаги по траве? Ей снился пророческий сон, будто меня постигло несчастье, железнодорожная катастрофа, — да, несчастный случай, особо пострадал вагон третьего класса. Вокруг пронзительные крики и стоны. Не могу понять, куда я ранен, но чувствую, что теряю сознание, погружаюсь в туннель, из которого, говорят, нет выхода.
Надо мной склоняется знакомое лицо, обрамленное мягкими русыми кудрями, женщина касается моей руки, щек, лба и, заломив руки, восклицает:
— Боже, он мертв!
Бр-р-р! Противно. Дьявольский кошмар. Когда это кончится? Не хочется думать, даю мыслям покой — хватит! Всякому терпению есть предел.
Буря утихла. Улеглись последние шумы и страхи. Я переплыл через ночь и вступаю на твердую почву. Рассветает. Неужели я не смогу повернуться лицом к востоку, если сделать небольшое усилие? Упираюсь на локти, с трудом поворачиваю голову. Восток весь багряный, бескрайний, омытый росой алеющих облаков, сквозь которые пробиваются могучие потоки лучей…
Сердце сжимается от боли при мысли, что жизнь так прекрасна, а я стою перед ее лицом в ожидании смерти.
Не могу налюбоваться на мир божий.
Он так чудесен, так величествен, что хочется вернуться с порога смерти хотя бы на миг, чтобы взглянуть на него еще раз.
Свежесть утра, пение жаворонков, благоухание цветов, далекая синева на западе и пурпурный океан на востоке — все это ликует надо мной, словно многозвучный, нескончаемый гимн жизни.
Первое, что удивляет меня, — это необычное оживление на шоссе. Снизу, со стороны Брегалницы, несутся повозки, толпится испуганная человеческая масса. Там что-то происходит, что именно — я понять не могу, да и желания особого не имею. Громыхание повозок, торопливый, отрывистый говор множества людей сливаются над шоссе в сплошной гул. Это отступление, бегство. Люди внизу залегают, открывают огонь. За рекой откликается орудие; над колонной разрывается шрапнель; продолжая отстреливаться, солдаты постепенно отходят к окопам, которые мы рыли неделю тому назад. Их змеевидная линия пересекает шоссе и вьется по склонам холмов.
Ясно, что эти, в окопах, — наши; но и те, что стреляют по ним, тоже наши. Что же происходит?
Под беспредельно высоким небом люди выглядят букашками, муравьями, катящими пшеничное зерно.
Стрельба умолкает, и окопы начинают заполняться солдатами. К полудню отступление становится общим. Скоро противник продвинется вперед по пятам отступающих, и его артиллерия начнет бить по тем самым кустам, в которых лежу я.
Нужно, нужно сделать что-то, найти какой-то путь к спасению! Земля все еще сырая, трава — мокрая от дождя. Рядом лежат ранец и винтовка Стаматко. Это наводит меня на мысль, что нужно выползти на шоссе. А вдруг найдется добрый человек и поможет мне добраться до лазарета! Почему бы не попытаться? Ведь голос ясно говорил: ты не умрешь. Я не суеверен, не верю в духов, но, возможно, то был голос инстинкта, который никогда не обманывает.
Я выползаю из своего убежища между винтовкой и ранцем, как змея из кожи.
Напряжение, которое я делаю, кажется мне таким огромным, словно я поднимаю на плечах целый вагон или сдвигаю мельничный жернов. У шоссе стоит одинокое дерево: это дикая груша; я различаю зеленые, еще мелкие плоды, — надо добраться до нее, чтобы сесть под ее сенью в ожидании помощи.
После первой попытки долго отдыхаю, собственно, отдыхает мое тело, бессильное двинуться дальше.
Второй этап — это куст, что впереди меня, похожий на борзую, присевшую на задние лапы. Я передвигаюсь медленно, как улитка, как раненый зверь, ползущий к своему логову.
Острое зловоние ударяет мне в нос, нестерпимое зловоние трупа. Да, да, то же самое ждет и меня, — мелькает в голове. Сквозь кусты виднеются серая шинель, ранец, подошва сапога, часть фуражки. Этот уже не борется со смертью, она безжалостно растоптала его и ушла. Вот и лицо его — синевато-землистое, обросшее щетиной, оно ужасно: разинутый рот, остановившиеся глаза, широко открытые, словно никак не могут наглядеться на высокое лазурное небо…
Подальше от подобного соседства! Я еще не дошел до такого состояния, я еще способен мыслить и наблюдать.
Сворачиваю в сторону; я готов ползти дальше, лишь бы обойти несчастного покойника, жертву на алтарь отечества, которое запишет имя его на какой-нибудь мемориальной доске посреди деревенской площади. Грядущим поколениям нужен пример для подражания! Деревенские куры будут рыться в земле над ним, в то время как его останки будут гнить в этом чужом краю, под этим безучастным небом…
Приближаются трое солдат. Оживленно беседуя и оглядываясь по сторонам, они скрываются в кустах. Их отрывистый разговор долетает до моего слуха. Он кажется мне странным, непривычным, несколько вольным.
— Я говорю командиру полка: «Что это у нас за правители? Мы даем им в руки победу, а они даже мира заключить не могут. Мы тут воюем, жрем вареную кукурузу, душа из нас, как говорится, прет вон, а они там гарцуют себе на конях и хоть бы что? Ходят слухи, румыны оккупировали Северную Болгарию [18]. Верно ли это? Мы хотим знать».
Голос на миг умолкает. Затем вновь продолжает, звеня от возбуждения.
— Полковник уставился на меня, сжал кулаки. «Унтер-офицер Антон Дишков! — кричит. — Прекратить разговор с начальством в таком тоне, не то придется твоей матери слезы лить, так ее и разэтак!..» — «Она, говорю, господин полковник, и так уже плачет от мамалыжников, что расположились у нас в домах и распоряжаются нашими женами!» — «Ты, отвечает, говори, да не заговаривайся, военные суды еще не отменены!» Да и двинулся на меня. «Как стоишь?! Смирно!» Встаю смирно. «Взять на караул!» Беру на караул. «За пятьсот лет [19] шевелить мозгами не научился — и сейчас не выучишься». И давай стукать эфесом сабли по лицу мне, по голове, будто по-отечески, в назидание… да так, что у меня в глазах потемнело…
Голос умолк. Кто эти люди? Затыкаю уши, чтобы не слышать, но история бунта, ярость этих голодных, обманутых людей, забывших присягу и долг свой, вливается в мои уши расплавленным свинцом.