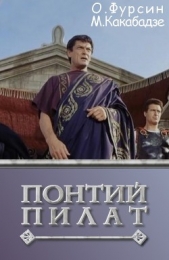Реликвия

Реликвия читать книгу онлайн
Роман "Реликвия" (1888) — это высшая ступень по отношению ко всему, что было написано Эсой де Кейрошом.
Это синтез прежних произведений, обобщение всех накопленных знаний и жизненного опыта.
Характеры героев романа — настоящая знойность палитры на фоне окружающей серости мира, их жизнь — бунт против пошлости, они отвергают невыносимую обыденность, бунтуют против пошлости.
В этом романе История и Фарс подчинены Истине и Действительности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Господин, галилейский учитель в претории…
Гадд, погруженный в молитву, разом очнулся. Он прянул, как дикий зверь, торопливо затянул вокруг пояса узловатую веревку и рванулся прочь, забыв набросить капюшон: светлые спутанные волосы разлетелись от быстрого движения. Топсиус расправил складки своего плаща на манер латинской тоги, снова придав себе величие мраморной статуи; затем сравнил Гамалиила с гостеприимным Авраамом и торжествующе воскликнул:
— В преторию!
Долго бежал я за Топсиусом через древний Иерусалим. Мысли мои мешались. Мы миновали какой-то безмолвный питомник роз времен первых пророков; его охраняли два левита с позолоченными пиками. Потом мы вышли на прохладную, благоуханную улицу: по обеим ее сторонам располагались лавки благовоний с вывесками в виде цветка или ступки. Тонкий плетеный навес укрывал двери от солнца, земля у входа была полита водой и посыпана мягкой травкой и листьями анемонов. Внутри, в прохладной полутьме, нежились с томным видом какие-то юноши в ярких шелковых одеяниях; волосы их были завиты локонами, глаза подведены; тонкие унизанные перстнями пальцы едва ли могли бы приподнять край тяжелых хитонов вишневых и золотисто-желтых расцветок. Миновав эту улицу неги, мы вышли на залитую солнцем площадь; ноги тонули в густой белой пыли. В центре площади старая пальма раскинула султан своих неподвижных, точно бронзовых, листьев. А в глубине площади чернела гранитная колоннада старого дворца Иродов. Здесь и была претория. У входной арки, где несли охрану два сирийских легионера с черными перьями на шлемах, толпились девушки — продавщицы опресноков; у каждой за ухом была роза, каждая прижимала к себе плетеную корзинку. Под укрепленным в земле огромным зонтом из перьев сидели, держа па коленях весы и дощечки для записей, менялы в мохнатых клобуках и обменивали римскую монету на местные деньги. Продавцы воды ходили тут же с косматыми бурдюками и выкликали товар протяжными, вибрирующими голосами. Мы вошли во двор претории — и страх обуял меня.
Это был светлый двор под открытым небом, вымощенный мрамором. Справа и слева шли двухъярусные аркады, образуя галерею с перилами — прохладную и гулкую, как в монастыре. Над задней частью двора, ближе к суровому фронтону дворца, был натянут обширный красный балдахин с золотой каймой; под ним выделялся четкий квадрат тени. Два сикоморовых шеста с цветком на верхушке поддерживали тяжелый штоф.
Здесь теснилась огромная толпа. Окаймленные голубой бахромой хитоны фарисеев смешались с грубыми холщовыми рубахами ремесленников, перехваченными кожаным поясом; были тут и полосатые — серые с белым — бурнусы галилеян, и красные плащи с капюшоном купцов из Тивериады; попадались женщины, не допускавшиеся, однако, под балдахин; они привставали на носки своих желтых мягких туфель, закрываясь от солнца краем покрывала. От толпы жарко пахло потом и миррой. По краям, над морем белых тюрбанов, сверкали острия пик. А под навесом, на возвышении, сидел человек с осанкой властелина; его окаймленная пурпуром тога ниспадала благородными складками; он был неподвижен, как мраморное изваяние; мощный кулак подпирал седеющую бороду. Глубоко посаженные сонные глаза были полузакрыты, красный шнурок придерживал волосы. Позади него, на спинке курульного кресла, служившего ей как бы пьедесталом, бронзовая римская волчица ощерила свою ненасытную пасть. Я спросил Топсиуса, кто этот задумчивый сановник.
— Понтий, по прозвищу Пилат, бывший наместник Батавии.
Я стал медленно бродить по двору, стараясь, как в церкви, потише стучать каблуками. Небо изливало тишину; лишь изредка из садов доносился резкий, унылый крик павлинов. У балюстрады боковых аркад храпели на солнцепеке животами кверху голые негры. Какая-то старуха, присев возле своей корзины с фруктами, пересчитывала выручку. Рабочие чинили крышу, примостившись на лесах между колоннами. Дети в углу играли железными обручами, которые нежно звенели о плиты.
Вдруг кто-то дружески хлопнул по плечу летописца Иродов. Это был красавец Манассей; рядом с ним стоял высокий старик с благородной и величавой осанкой. Топсиус с сыновним почтением поцеловал рукав его белой одежды, украшенной узором в виде виноградных листьев. Белоснежная борода, блестевшая от масла, доходила ему до пояса. Из-под головной повязки падали, точно мантия из царственного горностая, белые кудри. В одной руке, унизанной кольцами, он держал жезл из слоновой кости, другой рукой вел мальчика с бледным личиком и прекрасными, как звезды, глазами; ребенок был похож на ландыш, приютившийся в тени кедра.
— Взойдемте на галерею, — предложил Манассей, — там прохладней и нет такой давки.
Мы последовали за патриотом. Я потихоньку спросил Топсиуса, кто этот царственный старик.
— Равви Ровам, — почтительно прошептал мой ученый друг. — Светоч синедриона, тонкий и красноречивый оратор, один из приближенных Каиафы…
Преисполнившись уважения, я трижды склонился перед равви Ровамом. Тот уселся на мраморной скамье и, задумавшись, ласкал и прижимал к своей груди головку внука, золотистую, как иоппийское просо.
Потом мы медленно пошли дальше вдоль светлой и гулкой галереи. В конце ее находилась тяжелая дверь из кедра, обитая листовым серебром. Кесарийский преторианец охранял ее, сонно склонившись на щит из ивовых прутьев. Тогда, повинуясь какому-то внутреннему голосу, я подошел к перилам… и мои смертные глаза узрели там, внизу, живого сына божия!
Но — странная причуда изменчивой души человеческой! — я не испытал ни восторга, ни ужаса. Из памяти моей внезапно улетучились долгие, хлопотливые века истории и религии. Мне даже в голову не пришло, что этот худой загорелый человек — искупитель человеческого рода… Я непонятным образом перенесся в глубь времен. Я перестал быть христианином и бакалавром юриспруденции по имени Теодорико Рапозо; прежняя личность пропала, соскользнула с меня, словно плащ, во время торопливого бега из дома Гамалиила. Древность проникла в мое нутро и сделала меня другим человеком; я сам был древним, я стал Теодорихом-лузитанцем, который прибыл сюда на галере со скалистых берегов Великого Мыса и теперь странствует по землям, платящим дань императору Тиберию. А тот человек вовсе не Иисус, не Христос, не мессия, а просто молодой плотник из Галилеи, который ушел из своей зеленой деревни, задавшись великой мечтой — преобразить землю и обновить небеса; и на первом же перекрестке храмовый стражник связал ему руки и доставил к претору в присутственный день вместе с разбойником, грабившим на Сихемской дороге, и убийцей, который пырнул кого-то ножом во время потасовки в Эммафе…
На особом участке пола, где плитки были выложены в виде мозаичного узора, прямо против помоста с курульным креслом под Римской Волчицей стоял Иисус. Руки его были связаны веревкой, конец которой волочился по земле. Широкий грубошерстный хитон в серую полоску с голубой каймой понизу доходил до щиколоток. Сандалии его уже истрепались на пыльных дорогах пустынь и были укреплены ремнями. На голове не было язвившего чело тернового венца, как гласило Евангелие; он носил белую головную повязку из длинного домотканого полотнища, накрученного вокруг головы; концы ее падали с обеих сторон на плечи. Под остроконечной бородкой приходился узел шнурка, прикрепленного к тюрбану.
Волосы его были зачесаны за уши и слегка завивались на концах. На худом лице, почерневшем от солнца, темные глаза под сросшимися бровями светились глубокой мыслью. Он стоял перед претором неподвижно, полный спокойствия и сознания своей силы. Только едва заметная дрожь связанных рук выдавала душевное волнение. Время от времени он глубоко переводил дыхание, словно грудь его, привыкшую к вольному ветру холмов и озер Галилеи, тяжко давили мраморные стены, золоченый балдахин и тесные параграфы латинского правосудия…
Несколько в стороне обвинитель от синедриона, Сарейя, положив на землю свою мантию и золоченый жезл, читал сонно и нараспев по темному пергаментному свитку. На скамье сидел римский асессор; он задыхался от немилосердного зноя и обмахивал веером из сухих листьев бритое и белое, как гипсовая маска, лицо; лоснящийся старик-писец, расположившись за каменным столом, оттачивал острия своих палочек. Между ними стоял, засунув руки за пояс, толмач — безбородый финикиец — и улыбался, глядя в небо, и выпячивал грудь; на полотняной его рубашке красовалось изображение ярко-красного попугая. Над балдахином беспрестанно носились голуби. Так увидел я Иисуса из Галилеи, взятого под стражу и приведенного на допрос к римскому претору.