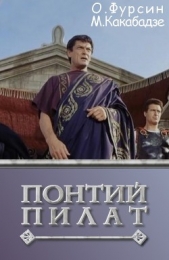Реликвия

Реликвия читать книгу онлайн
Роман "Реликвия" (1888) — это высшая ступень по отношению ко всему, что было написано Эсой де Кейрошом.
Это синтез прежних произведений, обобщение всех накопленных знаний и жизненного опыта.
Характеры героев романа — настоящая знойность палитры на фоне окружающей серости мира, их жизнь — бунт против пошлости, они отвергают невыносимую обыденность, бунтуют против пошлости.
В этом романе История и Фарс подчинены Истине и Действительности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
РЕЛИКВИЯ
Под легким покровом вымысла — могучее нагое тело истины.
— что в наш век, подточенный шатаниями Разума и потрясенный бушующей стихией Чистогана, «Записки» эти могли бы послужить наглядным и недвусмысленным уроком.
Переехав на лето в свою усадьбу Мостейро (бывшее родовое поместье графов де Линдозо), я решился составить на досуге мемуары, предлагаемые вниманию читателя; смею думать — и мнение мое разделяет шурин Криспин,
В году 1875, в самый канун дня святого Антония, меня постигло глубокое сердечное разочарование; тогда же тетушка моя, дона Патросинио дас Невес, в чьем доме на Кампо-де Сант'Ана я жил, отправила меня на богомолье в Иерусалим; и там среди священных стен совершилось чудо: вновь дышал зноем месяц нисан, прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, римским правителем Сирии — Элий Ламма, а первосвященником иудейским — Каиафа, и я стал очевидцем страшных событий. А потом вернулся на родину, и многое переменилось в моих денежных делах и духовном мире.
Подобные впечатления нечасто выпадают на долю простого юнца бакалавра; они высятся над буднями, как ветвистый дуб, полный солнца и шелеста, над выкошенным лугом; и потому я почитаю долгом рассказать вам в немногих и правдивых словах о том, что мне довелось увидеть. Я пишу, а над кровлей моей вьются ласточки, и куртины алой гвоздики наполняют сад благоуханием.
Странствие по землям Египта и Палестины навсегда останется вершиной моей жизни; я рад был бы воздвигнуть в память о нем и в назидание потомству достойный литературный монумент. Но за перо я взялся с целью сугубо назидательной и отнюдь не желал бы превратить страницы, посвященные личным воспоминаниям, в «Иллюстрированный путеводитель по странам Востока». Поэтому, вопреки искушениям тщеславия, исключаю из своей рукописи красочные описания развалин и обычаев.
Должен, впрочем, заметить, что евангельские края, столь заманчивые для людей с поэтической жилкой, не идут ни в какое сравнение с нашим засушливым Алентежо; и вообще я бы не сказал, что земли, удостоенные явления того или иного мессии, отличаются особой прелестью или великолепием. Мне не довелось посетить священных мест Индии, где протекала жизнь Будды: не видел я ни холмов Мигадайи, ни рощ Велуваны, ни тихой долины Раджагрии, по которой пробегал взор Совершенного Учителя; не бывал я и в камышовых зарослях, где вспыхнул символический пожар, давший Учителю повод наглядно преподать, что невежество подобно губительному огню, а питается оно ложными впечатлениями бытия, почерпнутыми из обманчивых образов мира. Не пришлось мне побывать и в пещере Хыра, не довелось увидеть священные пустыни между Меккой и Мединой, где столько раз в задумчивости проезжал на медлительном верблюде великий пророк Магомет. Но зато я изъездил вдоль и поперек — от смоковниц Вифании до тихих вод Галилеи — все места, где являлся другой божественный посланец, несший людям любовь и высокую мечту и названный господом нашим Иисусом; и что же я там видел? Сушь, пыль, дичь, запустение и мерзость.
Иерусалим — турецкий город с невзрачными улицами; он прикорнул среди бурых стен и смердит на солнце под унылый перезвон колоколов. Иордан — тощая струйка воды среди бескрайних песков. Куда ему до светлой, приветливой Лимы, которая бежит у нас в Мостейро и омывает корни моих вязов! А ведь эта мирная португальская речка никогда не плескалась о колени мессии… Никогда не бороздили ее вод крылья светозарных ангелов, слетевших во всеоружии с неба на землю, чтобы возвестить новую кару всевышнего!
Однако немало есть любознательных умов, которые желали бы почерпнуть из путевых заметок о святых местах сведения о самых разных предметах — от размера развалин до цен на пиво. Таким людям я рекомендую обратиться к обстоятельному и блестящему труду моего спутника, немца Топсиуса, профессора Боннского университета и действительного члена Имперской академии исторических раскопок. Сочинение его представляет собою семь томовinquarto убористого текста и вышло в Лейпциге под остроумным и многозначительным заглавием: «Обследованный Иерусалим».
Почти на каждой странице этого фундаментального путевого дневника высокоученый Топсиус упоминает и обо мне с уважением и приязнью, именуя меня не иначе как «родовитым лузитанским фидалго». Видимо, мое дворянское достоинство (которое он возводил чуть ли не к роду Барка) приятно щекотало самолюбие сего образованного плебея. Помимо этого, знаменитый Топсиус пользуется моей особой для другой цели: на всем протяжении своего пухлого труда он приписывает мне высказывания, обличающие тупоумную, слюнявую набожность, а затем опровергает с блеском и красноречием мои заблуждения. Так, например, он пишет: «Осматривая такие-то развалины времен крестового похода Готфрида Бульонского, именитый лузитанский фидалго утверждал, что господь, проходя по означенному месту в сопровождении святой Вероники…» — и тут же обрушивает на меня велеречивое, сокрушительное опровержение.
Поскольку, впрочем, приписанные мне речи по богатству мыслей и богословскому великолепию не уступают проповедям Боссюэ, я не стал посылать в «Кельнскую газету» заметки с разоблачением коварных приемов, к каким прибегает изощренная германская ученость ради победы над незамысловатой пиренейской верой. Но есть в «Обследованном Иерусалиме» один пункт, коего я не могу оставить без решительного возражения. Я имею в виду то место, где почтенный Топсиус говорит о двух бумажных свертках, которые я всюду возил с собой и с которыми постоянно возился во время моего благочестивого паломничества — от переулков Александрии до кряжей Кармела. В витиеватой манере, свойственной его академическому красноречию, доктор Топсиус пишет: «Именитый лузитанский фидалго хранил в этих пакетах горсть завещанного дедами праха, который он бережно собрал у подножия увенчанного башнями родового замка, прежде чем решился покинуть священные пределы отечества…» Вот поистине литературный слог, достойный всяческого порицания! Ведь фраза эта внушает всей читающей Германии вывод, будто я таскал с собой по святым местам кости моих предков, завернутые в серую бумагу!
Право, никакое другое обвинение не задело бы меня столь же болезненно. И не потому, что слова Топсиуса грозят мне церковным судом как безрассудному осквернителю родовых могил; я землевладелец и командор; следовательно, громы церкви пугают меня не больше, чем осенние листья, слетевшие мне на зонтик с засохшей ветки; к тому же церковь, взыскав положенную мзду за погребение наших костей, слагает с себя заботу о том, покоятся ли они после этого под сводом мраморного надгробия или же странствуют по свету, побрякивая в оберточной бумаге. Но утверждения Топсиуса могут уронить меня в глазах либеральной буржуазии. А в наш, банкирско-семитический век именно вездесущая и всемогущая либеральная буржуазия распределяет все блага — от теплого местечка в банке до звания командора ордена Непорочного зачатия. У меня есть дети, я не лишен честолюбия. Либеральная буржуазия любит, лелеет, охотно принимает в свое лоно дворянина, чье имя подкреплено родовыми замками и поместьями: это драгоценное старое вино, которым можно облагородить винцо молодое и кислое; но она — и с полным основанием — ненавидит бакалавришку из дворян, который заносчиво расхаживает у нее под самым носом, кичась костями своих пращуров, как бы в насмешку над ней, либеральной буржуазией, не имеющей предков и не располагающей их костями.
Вот почему я настоятельно прошу моего просвещенного друга (который отлично видел через свои проницательные очки, что именно завертывал я в эту бумагу и в земле Египетской, и в земле Ханаанской), чтобы в следующем издании «Обследованного Иерусалима» он отринул щепетильное академическое целомудрие, отбросил высокомерную брезгливость философии и открыл всей ученой и чувствительной Германии настоящее содержимое этих свертков; пусть скажет правду столь же чистосердечно, как я говорю ее в этих записках, набросанных в дни праздности и досуга. В них запечатлена Истина — плетется ли она, спотыкаясь, под тяжкими доспехами истории или резвится в яркой личине фарса.