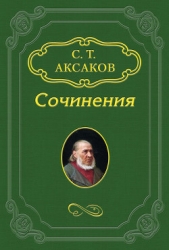Гоголь-студент

Гоголь-студент читать книгу онлайн
«Он катил домой на вакации – уже не гимназистом, как бывало до сих пор, а студентом, хотя в той же все нежинской „гимназии высших наук“, то есть с трехлетним, в заключение, университетским курсом.
Снова раскинулась перед ним родная украинская степь, на всем неоглядном пространстве серебристого ковыля она так и пестрела полевыми цветами всех красок и оттенков, так и обдавала его их смешанным ароматом, так и трепетала перед глазами, звенела в ушах взвивающимися по сторонам коляски кузнечиками – бирюзовыми, серыми и алыми…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И нравственное влияние любимого профессора на студентов было так велико, что они дали ему требуемое обещание – и сдержали его.
Глава девятнадцатая
Куколка начинает превращаться в мотылька
«Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться… Никогда еще экзамен для меня не был так несносен, как теперь. Я совершенно весь истомлен, чуть движусь. Не знаю, что со мною будет далее. Только я надеюсь, что поездкою домой немного обновлю свои силы…»
Так жаловался Гоголь своему петербургскому другу Высоцкому в длиннейшем письме, начатом еще в Нежине 26 июня 1827 года.
Вторая половина письма, которая, судя по другим чернилам и по другому, более небрежному, почерку, была написана позднее и при других обстоятельствах, звучала совершенно иначе. Там с удовольствием рассказывалось об ожидаемом обилии фруктов: «Деревья гнутся, ломятся от тяжести, не знаем девать куда». А в заключение, совершенно уже неожиданно, конечно, для «единственного друга, Герасима Ивановича», давалось ему такое поручение:
«Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Мерку может снять с тебя, потому что мы одинакового росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного уже. Но об этом после, а теперь – главное – узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде, и цену выставь в письме, чтобы я мог знать, сколько нужно послать тебе денег. А сукно-то я думаю здесь купить, оттого, что ты говоришь – в Петербурге дорого… Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цены за пошитье. Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами [31]. А черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется. С нетерпением жду от тебя ответа, милый, единственный, бесценный друг.
Письмо мое начал укоризнами уныния и при конце развеселился. Тебе хочется знать причину? Вот она: я начал его в Нежине, а кончаю дома, в своем владении, где окружен почти с утра до вечера веселием…»
В чем же заключалось это веселье? Да в том, что оба молодые дяди Гоголя, Косяровские, гостили по-прошлогоднему в Васильевке, оживляли все и вся, и так как племяннику-студенту минуло уже восемнадцать лет, то даже дядя Петр Петрович обходился с ним почти запанибрата. А когда оба дяди, как люди военные, изрядные таки щеголи, собирались куда-нибудь в гости к соседям, то без отговорок заставляли племянника надевать свой лучший фрак или парадный мундир и ехать вместе с ними. Так-то под влиянием двух мотыльков наша куколка начала раскукливаться из своего невзрачного мохнатого кокона, и, чтобы сделаться также нарядным мотыльком, ей недоставало только петербургского «синего фрака с металлическими пуговицами».
Но еще до этого ей суждено было самостоятельно дебютировать в качестве мотылька. В начале августа Марье Ивановне вспомнилось вдруг, что завтра – день ангела одного соседа-помещика, старинного приятеля ее покойного отца. Между тем оба двоюродных брата ее укатили на некоторое время в Полтаву, и отрядить с поздравлением к племяннику не оставалось никого другого, как Никошу.
– Да я не был в доме Ивана Федоровича с самого детства! – попытался тот отлынуть.
– Но Иван Федорович, несмотря на свои семьдесят лет, был у меня здесь с визитом при тебе еще прошлым летом, – убеждала Марья Ивановна. – И надо же тебе наконец, милый мой, выезжать одному, до Петербурга меж людьми потереться, набраться лоску! Я очень рада, что ты теперь хоть немножко начинаешь франтить. Новый фрак у тебя, правда, вышел мешковатым, но он все-таки тебе к лицу.
– Вы, маменька, только утешить меня хотите! В Нежине у нас, право, не портные платье шьют, а какие-то сапожники! Нет, коли уж ехать, так в казенной форме: все уютнее…
И на другое утро прямо с постели он облекся в свой студенческий мундир. Напоив сына чаем, Марья Ивановна проводила его на крыльцо, наказывая сделать в платке двойной узел, чтобы никак не забыть поздравить именинника.
– Да у меня же, маменька, нет насморка, так и платка, пожалуй, не выну. Эй, Ничипоре! Завяжи-ка хвосты коням двойным узлом…
– Не слушай его, Ничипоре, не слушай! – поспешила отменить его распоряжение мать. – Нет, голубчик, право же, ради Бога, не забудь! И потом, смотри, подойди непременно к ручке ко всем замужним дамам, сперва которые постарше, а потом помоложе.
– Я, маменька, не шаркун…
– Не шаркун еще, а модник. От модника же до шаркуна один шаг.
– Но в Петербурге, говорил дяденька Петр Петрович, молодым дамам уже не целуют рук…
– Ну, ну, пожалуйста. Что за вольнодумство! Меня же за невежу-сына все здесь попрекать станут. Не наделай мне этакого сраму!
И вот он единственным представителем Гоголей-Яновских, развалясь в родовой желтой коляске, подъезжал уже к усадьбе именинника. Слуга в белых нитяных перчатках бережно высадил его из экипажа и, все поддерживая под одну руку, проводил в прихожую, где снял с него плащ, а затем платяною метелкой стал стряхивать с его мундира пробившуюся и сквозь плащ дорожную пыль. Сам Гоголь в то же время перед зеркалом головною щеточкой приглаживал себе виски и вихор: первый раз в жизни ведь приходилось ему выступить здесь одному перед совершенно незнакомым ему обществом.
– А где Иван Федорович?
– Да вот пожалуйте в гостиную. Там и барин, и все гости.
– Уф! Господи, благослови! – прошептал Гоголь и, мысленно перекрестясь, переступил порог.
Но в первой комнате, небольшой и низенькой, заставленной грузной старинною мебелью и потому еще более тесной, никого не было. Издали только доносился смутный, многоголосый говор, указывая направление, где искать гостиную.
За первою комнатою следовала такая же маленькая вторая, за второю третья. В дверях четвертой спиною к входящему стоял сам хозяин, высокий, осанистый старик, который, заслышав шаги за собою, быстро обернулся.
– А! Очень рад. Наконец-то вспомнили тоже о нас. Ну, что, как здоровье вашей матушки?
Облобызав юношу в обе щеки, он взял его за руку, чтобы представить другим гостям.
«Фу-ты, на: поздравить-то и забыл!» – ударило в голову Гоголю. Но поправить свою оплошность ему уже не пришлось, потому что тут же у дверей он очутился в объятиях какого-то толстяка, который затем огорошил его еще вопросом:
– А халву с собой взять не забыли?
То был, оказалось, его веселый спутник, пирятинский помещик Щербак, с которым три года назад он совершил поездку из Нежина домой и которому спящему из шалости обмазал двойной подбородок халвою.
– Халвы-то у нас, пожалуй, не найдется, – сказал хозяин. – Но свежие медовые соты, может быть, сослужат ту же службу?
– Как нельзя лучше, – отвечал со смехом Щербак. – Молодой человек наш, изволите видеть, большой любитель мух, и чтобы их подкармливать…
– Виноват, – прервал весельчака Иван Федорович, который, заметив смущение буки-студента, не хотел дать его слишком в обиду. – Потом как-нибудь доскажете. Мне надо еще отрекомендовать его дамам.
Дамы разместились в глубине просторной и светлой гостиной на длинном турецком диване, тянувшемся от одной стены до другой, откуда уже на стульях по всей стенке до дверей красовалась цветная гирлянда барышень. Первою с края восседала на диване пожилая барыня, очень решительная и несколько даже свирепая на вид, благодаря сросшимся над переносьем густым бровям и темному пушку над верхнею губою.
– Позвольте, почтеннейшая Пульхерия Трофимовна, – обратился к ней хозяин, – познакомить вас с сыночком нашей общей доброй соседки – Марьи Ивановны Яновской.
– Так вот ты, батюшка, теперича какой из себя будешь? – промолвила чуть не мужским басом Пульхерия Трофимовна, подставляя к губам склонившегося перед нею юноши свою мясистую руку. – Видела я тебя вон каким. Никак бы, право, не признала А почему ты, сударик, скажи-ка, о сю пору ко мне с поклоном не пожаловал?