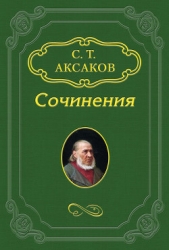Гоголь-студент

Гоголь-студент читать книгу онлайн
«Он катил домой на вакации – уже не гимназистом, как бывало до сих пор, а студентом, хотя в той же все нежинской „гимназии высших наук“, то есть с трехлетним, в заключение, университетским курсом.
Снова раскинулась перед ним родная украинская степь, на всем неоглядном пространстве серебристого ковыля она так и пестрела полевыми цветами всех красок и оттенков, так и обдавала его их смешанным ароматом, так и трепетала перед глазами, звенела в ушах взвивающимися по сторонам коляски кузнечиками – бирюзовыми, серыми и алыми…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нежинской гимназии в отношении преподавателей новых иностранных языков вообще посчастливилось благодаря незабвенному директору ее Орлаю: как завзятый филолог, придавая особенное значение чтению иностранных авторов в оригинале, он успел завербовать для своего заведения таких двух образцовых словесников, глубоко преданных своему делу, как француз Жан-Жак (по-нежинскому Иван Яковлевич) Ландражен и немец Фридрих Иосиф Зингер (перекрещенный нежинцами точно также в Федора Осиповича).
«Зингер открыл нам новый, живоносный родник поэзии, – говорит в своих воспоминаниях Кукольник. – Любовь к человечеству, составляющая поэтический элемент творений Шиллера, по свойству своему прилипчивая, быстро привилась и к нам и много способствовала развитию характера многих. До Зингера на немецких лекциях обыкновенно отдыхали сном послеобеденным. Он умел разогнать эту сонливость увлекательным преподаванием, и не прошло и года – у нового профессора были ученики, переводившие „Дона Карлоса“ и другие драмы Шиллера. А вслед затем и Гете, и Кернер, и Виланд, и Клопшток, и все, как называли, классики германской литературы, не исключая даже своеобразного Жан Поля Рихтера, в течение четырех лет были любимым предметом изучения многих учеников Зингера».
К числу этих многих до 1827 года Гоголь, во всяком случае, не принадлежал. Едва ли не им же временное увлечение товарищей немецкою литературой было названо «нашествием готов». Но однажды как-то он подготовил заданный Зингером урок лучше обыкновенного и заслужил двойку с крестом, а после класса Федор Осипович совершенно неожиданно взял его под руку и пошел разгуливать с ним по коридору.
– Я имею кой о чем побеседовать с вами, друг мой, – объяснил профессор смешанным немецко-русским языком, к которому прибегал по необходимости с воспитанниками, не говорившими по-немецки. – Я желаю вам одного добра, как старший брат младшему, верите вы мне?
На такой вопрос Гоголь невольно покосился на шедшего с ним об руку «старшего брата». Сам Гоголь был роста ниже среднего. Зингер же, несмотря на высокие каблуки и взбитый хохолок, приходился ему чуть не по плечо. Но малый рост искупался у него гордой осанкой и выразительными чертами лица.
«Как есть сказочный гном, вылезший из своей подземной норы благодетельствовать простым смертным», – мелькнуло в голове Гоголя.
– Ну, от старших братьев у младших иной раз и затылок чешется, – промолвил он вслух. – Но что вы, Федор Осипович, не из таких старших братьев, доказывает крестик, который вы прибавили мне нынче к двоице и который мне дороже, чем иному чиновнику Святополк в петличке.
– Как бы только он не стал вам могильным крестом! – с ударением проговорил Зингер, задетый, видно, за живое неуместным острословием школяра. – Вы, Яновский, не обижены природой, в чем я недавно и с горестью и с радостью убедился на вашем театральном дебюте. С горестью – ибо природные дары свои вы приложили доселе лишь к самому сомнительному искусству – сценическому.
– А Шекспир? Он тоже ведь был актером… – стал было возражать Гоголь.
Маленький профессор внушительно до боли сжал ему локтем руку.
– Извольте сперва дослушать. С радостью – ибо ваш замечательный успех на этом неблагодарнейшем поприще позволяет надеяться, что зарытые вами в землю таланты по другим отраслям пустят тоже ростки и увидят свет Божий. Вы, я слышал, пописываете. Стало быть, любите литературу. Ужели, скажите, у вас нет ни малейшей охоты ближе познакомиться с первыми корифеями немецкой литературы Шиллером и Гете?
– Охота смертная, да участь горькая. В переводе я с ними хотя немножко и знаком, но в оригинале эти господа для меня – книга о семи печатях, и мне, признаться, как-то не верится, что они могли писать так хорошо сразу по-немецки. Верно, они писали сперва по-русски или хоть по-французски, а там уже переводили на немецкий язык.
Для коренного немца Зингера своеобразный юмор Гоголя был недоступен. Он улыбнулся, правда, но только над наивностью молодого малоросса, слова которого принял буквально за чистую монету.
– Самое легкое трудно, друг мой, пока на него не решишься, – поучительно заметил он. – А что язык наш – язык Шиллера и Гете – вовсе не так труден, вы видите на Халчинском. Давно ли, кажется, он ни слова не знал по-немецки? А теперь вот вместе с Кукольником и другими перевел всю шиллерову «Историю тридцатилетней войны». Поступите точно так же, как Халчинский. Возьмите лексикон, подыскивайте вначале хоть каждое слово, на сотой странице добрая половина слов вам будет уже понятна, а из остальных почти все вам дадутся уже по общему смыслу. Так вы совершенно незаметно втянетесь и в незнакомый вам язык, и перед вами откроется новый и, поверьте мне, чудный мир! Само собою разумеется, что начинать вам прямо с Шиллера, а тем более с Гете нельзя. Начните хоть с идиллий Фосса, которые вам придутся уже потому по душе, что сами вы ведь, как я знаю, провели все детство свое в деревенской идиллии.
Так убеждал карлик-профессор, и хотя фигура его была нимало не внушительна, хотя немецкая речь его ради большей понятности пересыпалась русскими словами, которые произносились с невозможным акцентом, но насмешнику-студенту было не до смеха: очень уж искренне говорил Федор Осипович, и слова его как-то сами собой проникали в сердце.
– Но в нашей казенной библиотеке здесь, кажется, есть какая-то «Луиза» Фосса в русском переводе… – сказал Гоголь.
– И очень хорошо. А я дам вам свой экземпляр, даже в деревню на каникулы. Сперва прочтете стих по-русски, потом по-немецки…
– Благодарю, Федор Осипович… Если уже приниматься за немецких авторов, так я все-таки предпочел бы Шиллера, который мне и без того уже несколько знаком по переводам Жуковского. У меня вот страсть к миниатюрным изданиям. «Математическую энциклопедию» Перевощикова, которая издана в прелестнейшей миниатюре – в одну шестнадцатую долю листа, я нарочно, например, выписал себе из Москвы, хотя к самой математике, правду сказать, не питаю ни малейшей слабости. Так я, может быть, выписал бы и Шиллера, если бы он нашелся в таком формате…
– Найдется! – с живостью подхватил Зингер, видимо, очень счастливый, что уломал-таки строптивца. – Если и не в Москве, так, наверное, в Лемберге, моем родном городе. Угодно вам, я напишу туда, чтобы выслали для вас?
– Но мне совестно беспокоить вас, добрейший Федор Осипович…
– Что за беспокойство! Я рад, я очень, очень рад. Через меня вам обойдется даже дешевле, потому что мне мой поставщик-книгопродавец делает известную уступку. Так я, значит, выписываю один миниатюрный экземпляр?
Мог ли Гоголь отказаться от такого любезного предложения?
– О чем это у вас были с ним такие нежные объяснения? – полюбопытствовал Прокопович, когда приятель его раскланялся наконец с благодетельным гномом. – Нашествие готов?
– В том роде… – уклонился от прямого ответа Гоголь, которому словно было совестно признаться, что и его одолели «готы».
Но что влияние их не прошло для него бесследно, видно из следующих строк его к матери:
«Мой план жизни теперь удивительно строг и точен во всех отношениях. Каждая копейка теперь имеет у меня место. Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, с тем чтобы иметь хоть малейшую возможность поддержать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде видеть и чувствовать прекрасное. Для него-то я с трудом величайшим собираю все годовое свое жалованье, откладываю малую часть на нужнейшие издержки. За Шиллера, которого я выписал из Лемберга, дал я сорок рублей. Деньги весьма немаловажные по моему состоянию. Но я награжден с излишком и теперь несколько часов в день провожу с величайшею приятностью… Иногда читаю объявление о выходе в свет творения прекрасного. Сильно бьется сердце – и с тяжким вздохом роняю из рук газетный листок объявления, вспомня невозможность иметь его. Мечтание – достать его – смущает сон мой, и в это время получению денег я радуюсь более самого жаркого корыстолюбца».