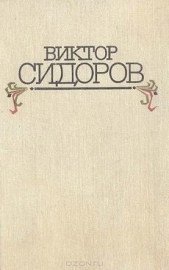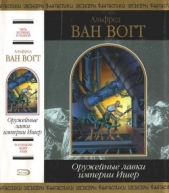Коричные лавки. Санатория под клепсидрой

Коричные лавки. Санатория под клепсидрой читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меж всех историй, которые, так и не выпутавшись, теснятся у корней весны, есть одна, давно уже ставшая принадлежностью ночи, навсегда осевшая на дне поднебесий — вечный аккомпанемент и фон звездных бездн. Сквозь всякую весеннюю ночь, что бы в ней ни происходило, широким шагом проходит история эта над огромным концертом лягушек и нескончаемой работой мельниц. Идет сей муж под звездным помолом, сыплющимся с жерновов ночи, проходит широким шагом по небу, кутая младенца в фалдах плаща, всегда в пути, в неустанном странствии через бескрайние пространства ночи. О, страшная печаль одиночества, о, непомерное сиротство в ночных пространствах, о, свет далеких звезд! В истории этой время уже ничего не изменит. Во всякий момент проходит она через звездные горизонты, всякий раз минует нас широким шагом, и так будет всегда, всегда сызнова, ибо, однажды сойдя с рельсов времени, она сделалась неисследимой, бездонной, никаким повторением неисчерпываемой. Идет муж сей и лелеет дитя на руках — мы намеренно повторяем этот рефрен, этот печальный эпиграф ночи, дабы выразить интермитирующую непрерывность прохода, порой застимую неразберихой звезд, порой вовсе невидимую в продолжение долгих немых интервалов, сквозь которые веет вечность. Далекие миры подступают совсем близко — ужасающе яркие, шлют они сквозь вечность резкие сигналы в немых, невыразимых донесениях, а он идет и все время монотонно и без надежды успокаивает девочку, бессильный перед шепотом, перед жутко сладостными нашептываниями ночи, перед тем единственным словом, в которое складываются уста тишины, когда никто ее не слушает...
Это история о похищенной и подмененной принцессе.
А когда поздней ночью они тихо возвращаются в обширную виллу среди садов, в белую низкую комнату, где стоит и молчит всеми струнами длинный черный сияющий рояль, а к стеклянной большой стене, словно к стеклам оранжереи, склоняется вся весенняя ночь, бледная и сыплющая звезды, а изо всех флаконов и сосудов над прохладной постелью белого ложа горько пахнет черемухой — тогда сквозь необъятную и бессонную ночь бегут тревоги и вслушивания, и сердце говорит во сне, и летит, и спотыкается, и всхлипывает в обширной и росистой, мотыльками мельтешащей ночи, горькой от черемухи и сияющей... Ах, это горькая черемуха распростирает ночь бездонную, и сердце, измученное полетами, утомленное радостными погонями, хотело бы уснуть на мгновение у какой-нибудь воздушной границы, на каком-то узейшем краю, но из бледной нескончаемой ночи выпространивается новая ночь, еще бледнее и бестелесней, исчерченная сияющими линиями и зигзагами, спиралями звезд и бледных полетов, тысячекратно уколотая хоботками невидимых комаров, тихих и услажденных девичьей кровью, и неутомимое сердце снова бормочет во сне, невменяемое, впутанное в звездные и темные аферы, в запыхавшийся спех, в лунные переполохи, стократные и на верху блаженства, вплетенные в бледные очарования, в обмеревшие лунатические сны и летаргические ознобы.
Ах, все похищения и погони ночи, измены и шепоты, негры и кормчие, решетки балконов и ночные жалюзи, муслиновые платья и вуали, развевающиеся вслед запыхавшемуся побегу!.. Ах, через внезапное, наконец, помрачение, глухую и черную паузу, приходит эта минута — все марионетки лежат по своим коробкам, все шторы задернуты, и все дыхания, давно предопределенные, спокойно перемещаются по всему пространству этой сцены, меж тем как на успокоившемся огромном небе безмолвный рассвет сооружает свои далекие города, розовые и белые, свои светлые надувные пагоды и минареты.
Лишь для внимательного читателя Книги природа той весны отчетлива и ясна. Вся утренняя подготовка дня, весь его ранний туалет, все колебания, сомнения и скрупулезность выбора открывают свою суть посвященному в марки. Марки втягивают в хитроумную игру утренней дипломатии, в затяжные переговоры, атмосферические лавирования, предваряющие окончательную редакцию дня. Из рыжих туманов девятого этого часа — а это уже ясно видно — желала бы высыпать жаркой и запекшейся цветной экземой пестрая и пятнистая Мексика с извивающейся в клюве кондора змеей, однако в прорывах голубизны, в высокой зелени деревьев попугай не устает повторять «Гватемала», настойчиво, с одинаковыми паузами, с однообразной интонацией, и от зеленого этого слова понемногу делается черешнево, свежо и лиственно. И так, понемногу, в трудностях и конфликтах, происходит голосование, оговаривается порядок церемонии, ход парада, дипломатический протокол дня.
Дни в мае были розовые, как Египет. Яркость площади переходила мыслимые границы и шла волнами. Нагромождения летних облаков в небе клубясь стояли ниц у скважин света, вулканические, ярко окаймленные — и Барбадос, Лабрадор, Тринидад — все переходило в алость, словно бы зримое сквозь рубиновые очки, и через два-три удара пульса, через помрачения и красное затмение крови, бросившейся в голову, проплывал по целому поднебесью большой корвет Гвианы, взрываясь всеми парусами. Он плыл, раздутый, фыркая парусиной, натужно влекомый меж натянутых канатов и крика буксиров сквозь негодование чаек и красный блеск моря. И вырастал на все небо, широко разметывался огромный путаный такелаж канатов, веревочных лестниц и перекладин, и, гремя растянутым в высях полотном, дробился в многократный, многоэтажный воздушный спектакль парусов, брасов и рей, в прозорах которого на мгновение возникали маленькие проворные арапчата и разбегались по всему полотняному лабиринту, исчезая в знаках и фигурах фантастического неба тропиков.
Потом антураж меняется; на небе, в массивах туч кульминируют сразу три розовых затмения, дымится светозарная лава, обводя светящейся линией грозные контуры облаков, и — Куба, Гаити, Ямайка — сердцевина света уходит в глубину, ярче дозревает, доходит до своей сути, и вдруг изливается чистая эссенция тех дней: шумная океаничность тропиков, архипелагических лазурей, радостных морских бездн и ширей, экваториальных и соленых муссонов.
С альбомом в руках читал я эту весну. Разве не был он великим комментарием времен, грамматикой их дней и ночей? Ту весну можно было просклонять всеми Колумбиями, Коста-Риками и Венесуэлами, ибо что такое по сути Мексика, Эквадор и Сьерра-Леоне, как не какой-то хитроумный препарат, какой-то изощренный привкус мира, какая-то изысканная и крайняя крайность, тупиковый заулок аромата, куда в своих исканиях увлекает себя мир, пробудясь и упражняясь на всех клавишах.
Главное — не забыть, как Александр Великий, что всякая Мексика не окончательна, она всего-навсего линия перехода, которую перешагивает мир, что за всякой Мексикой открывается новая Мексика, еще более яркая — сверхкраски и надароматы...
Бианка вся серая. Ее смуглая кожа содержит в себе какой-то растворенный компонент погасшего пепла. Наверно прикосновение ее руки превосходит всяческое воображение.
Целые поколения дрессировки в ее дисциплинированной крови. Трогательно это покорное судьбе следование предписаниям такта — свидетельство сломленного непокорства, подавленных бунтов, тихих всхлипов по ночам и насилий, совершенных над самолюбием. Каждым своим жестом она, исполненная доброй воли и печального очарования, вписывается в положенные правила. Она не делает ничего сверх того, что необходимо, всякий жест ее скупо рассчитан и только-только заполняет форму, согласуясь с формой этой без рвения, как бы лишь из пассивного чувства ответственности. Изнутри преодолений этих черпает Бианка свой довременный опыт, свое знание вещей. Бианка знает всё. И не трунит над своим знанием, ибо оно серьезно и исполнено печали, и губы сомкнуты над ним в линию совершенной красоты, а брови прорисованы со строгой аккуратностью. Нет, знание для нее не повод к снисходительной вялости, к мягкости и распущенности. Совсем наоборот. Как если бы истине, в которую всматриваются ее печальные очи, можно соответствовать лишь неотрывным вниманием, лишь скрупулезнейшим соблюдением формы. В этом безошибочном такте, в этой лояльности по отношению к форме — целое море грусти и страдания, которое с трудом получилось превозмочь.