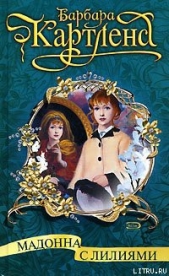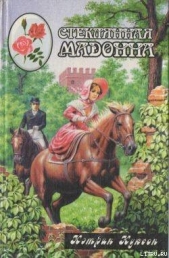Мадонна будущего. Повести
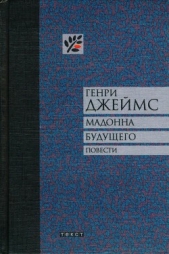
Мадонна будущего. Повести читать книгу онлайн
Генри Джеймс (1843–1916) — признанный классик мировой литературы, мастер психологического анализа и блестящий стилист. Своими учителями он считал Бальзака и Тургенева и сам оказал заметное влияние на всю психологическую прозу XX столетия. В сборник Г. Джеймса вошли малоизвестные или вовсе не известные в России произведения, объединенные темой конфликта между искусством и обыденной жизнью, свободным художником и обществом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этой моей реплике наши взгляды на мгновение встретились: я увидел, что ее вдруг поразила мысль, будто в моем замечании скрыт намек на некое личное ее пристрастие к нашему тучному философу, обусловленное не то преображающей реальную персону мечтательностью, не то редким извращением вкуса. А как же иначе прикажете трактовать румянец, внезапно вспыхнувший на ее прелестном личике? Я было пришел в замешательство от того, что Руфь мои слова смутили, и не знал, как ее ободрить, но девушка быстро справилась с собой, краска отхлынула от ее щек, и она обратилась ко мне с самой что ни на есть обворожительной улыбкой:
— О, вот видите, как просто, оказывается, забыть о былой неприязни к этому человеку!
Ее сочувственный тон словно одним-единственным взмахом кисти начисто удалил с полотна громоздкую фигуру нашего кумира, но вместе с тем эта фраза и по сей день звучит у меня в ушах как чистосердечнейшая похвала, не идущая в сравнение со всеми нашими. Однако, тут же припомнив, кого именно лишали всех и всяческих прерогатив, я не удержался и порывисто шепнул:
— Бедняга Солтрам!
Руфь обладала даром угадывать истинную меру того, что я начисто отрицал, и это позволило ей продолжить:
— Что поделаешь, если благодаря кому-то в тебе пробуждается интерес к жизни?
— Да, в самом деле, что? — эхом отозвался я.
Неопределенность моего отклика могла ее удивить, но я уже думал о совсем другом человеке, и это заставило меня невнятно промычать с легким вздохом:
— Бедняга Грейвнер!
Что сталось с тем интересом, который пробудил он? Позднее я осознал, насколько тягостно поразило Руфь его нескрываемое желание присвоить себе эти злосчастные деньги. В этом и состояла истинная причина ее отчуждения. Алчность алчностью, но его язвительная критика завещания сэра Грегори была, по всей вероятности, вполне искренней, однако ничто не могло оправдать неприглядности его требования купить на эти деньги хороший дом. Итак, по причине размолвки, Джордж оказался не способен (что вполне простительно) оценить, какое обновление принес душе его невесты Фрэнк Солтрам. Если таким вопросом мог задаваться простой, незаинтересованный наблюдатель, представляю, с каким негодованием задался бы им сам Грейвнер! Мне еще предстояло убедиться, что он, в отличие от Руфи, вовсе не так горд, чтобы таить от меня причину своего разочарования.
На сей раз я никак не мог остаться к обеду — во всяком случае, удалился именно под этим предлогом. Я и вправду стремился поскорее избавиться от продолжения разговора, что освобождало меня от притворных усилий найти для Руфи желанный выход. Чем я мог ей помочь? Разве можно было признаться, сколь многое лежало под спудом? Я и сам всего не знал, да и не хотел знать. Я всегда стремился как можно меньше слышать о слабостях бедняги Солтрама — не допытываться до главного. Большую часть сведений мне, по сути дела, навязала его супруга. Непреклонная добросовестность мисс Энвой вызывала во мне смутную досаду, и я невольно задавался вопросом, почему бы ей в конце концов не оставить несчастного философа в покое и не удовлетвориться вручением Джорджу Грейвнеру лицензии на покупку подходящего дома. Не сомневаюсь, он бы отлично провернул это дельце, приобретя по дешевке превосходный особняк.
Я смеялся едва ли не веселей, чем сама Руфь; тянул время, увиливая от прямого ответа; заверял ее, что мне на досуге необходимо все хорошенько обдумать. Я запугивал ее чудовищным бременем ответственности, которое ляжет на ее хрупкие плечи, и вышучивал ее горячее увлечение беспрецедентной затеей. Нет, скандала я не боялся; не страшила меня и моральная дискредитация фонда. Больше всего беспокоило меня другое. Дело заключалось вот в чем: лауреат, конечно, получал право на пожизненное пользование соответственными благами, но предполагалось, что в дальнейшем возникнут и новые претенденты, отвечающие высоким требованиям, и потому весьма желательным представлялось, чтобы самый первый в ряду достойных избранников являл собой высокий образец семейной добродетели. В данной же ситуации фонду будет положено дурное начало — и возложенный на нашего кумира лавровый венок вряд ли не пожухнет, если принять во внимание некоторые малоприятные привходящие обстоятельства. Впрочем, тревожился я по этому поводу куда меньше, чем следовало бы: волновало меня не то, что деньги достанутся Солтраму незаслуженно, но скорее то, что юная восторженная девушка их лишится. Мне хотелось, чтобы Руфь оставила их себе, и, прощаясь, я напрямик сказал ей об этом. Моя собеседница строго глянула на меня (я никогда прежде не видел ее такой серьезной) и выразила надежду, что сугубо личные предпочтения не подстрекнут меня к шагам, граничащим с непорядочностью.
Все услышанное, надо сказать, вывело меня из душевного равновесия — и вместо того, чтобы направиться к станции, я решил побродить по многоцветной пустоши, откуда открывался вид на окрестности Уимблдона. Хотелось размяться, стряхнуть с себя возбужденность, отогнать подальше ту малую, по выражению мисс Энвой, долю забот, которая, как ни крути, а все же угнетала меня довольно чувствительно… Я сознавал яснее ясного, от какой бездны неприятностей Коксоновский фонд избавил бы нас в будущем, однако казалось все же легче по-прежнему противостоять всем трудностям лицом к лицу, нежели стать свидетелем — и даже в какой-то мере пособником — добровольного отказа от счастья двух дорогих мне людей, судьба которых была мне далеко не безразлична.
Ясное осознание положения дел длилось недолго: не прошло и получаса, как вдруг невдалеке моему взору предстали массивные очертания пожилого толстяка, одиноко сидящего на скамье под раскидистым деревом. Он пристально, с грустной задумчивостью смотрел перед собой; пухлые белые руки были сложены на золотом набалдашнике тяжелой трости. Трость я узнал сразу: ведь это я сам преподнес ее Фрэнку Солтраму в дар тогда — в те волнующие, незабываемые дни… Я остановился, едва он завидел меня, и тут произошло неожиданное: неведомо почему, но мне вдруг открылось, словно прозревшему, какой глубокой красоты преисполнен его мягкий, рассеянный взгляд. Глаза Солтрама лучились умудренностью, как небосклон солнечным светом, и у меня возникло чувство, будто между нами перебросили украшенный аркой мост; будто мы очутились рядом, вдвоем, под сводом величественного храма. Несомненно, особую остроту этому новому чувству придавали мои былые отречения от него, старания изгнать из памяти даже само его имя. Захваченный своим открытием, я застыл на месте как пригвожденный; на губах моих, очевидно, обозначилось некое подобие виноватой улыбки. Солтрам улыбнулся мне в ответ ободряюще и терпеливо — с благородной, спокойной усталостью уязвленного добросердечия. Я говорил мисс Энвой, что у него нет чувства собственного достоинства; но вот он недвижно сидел и ждал, пока я подойду к нему, — сидел в расстегнутом жилете, с видом крайней расслабленности, точно мелкие дрязги земного существования ровным счетом ничего для него не значили; и вот теперь — разве не воплощением царственности он мне показался? Вот оно, подлинное величие Фрэнка Солтрама: о наших беспрерывных спорах и толках о том, как обеспечить ему хлеб насущный, или о том, как вознаградить или не вознаграждать его дарования, он нимало не догадывался и даже не подозревал.
Посидев минуту-другую бок о бок с Солтрамом на скамье, я полуобнял его за широкое податливое плечо (при любом соприкосновении с ним обнаруживалась та же уступчивость) и обратился к нему, причем голос мой прозвучал со странной для меня самого просительностью:
— Поедем в город, дружище, скоротаем вечерок вместе, вдвоем…
Я не хотел расставаться с ним, желал его общества и спустя час, со станции Ватерлоо, известил Малвиллов о своем приобретении телеграммой. Поначалу Солтрам наотрез отказался ночевать у меня, ссылаясь на отсутствие пижамы, но я охотно предоставил в его распоряжение свою. Я избегал заказывать обед домой, а отправляться в клуб было уже поздно, и пиршество наше свелось к жареной рыбе и чаю, если забыть о пиршестве духовном. Теперь, после всего происшедшего, меня распирало от стремления заключить с дорогим гостем обоюдный мир, что вполне отвечало его неизменной готовности видеть во мне друга. Слишком, слишком часто я навязывал ему в прошлом темы и предметы совершенно лишние, не идущие к делу: отрадно вспомнить, что в тот вечер я даже и не заикнулся ни о миссис Солтрам, ни о ее выходке. Мы курили и беседовали далеко за полночь, непринужденно и раскованно, освободившись от былой натянутости и забыв старые счеты; и я приложил все старания, дабы довести до сознания моего гостя, сколь многим я ему обязан и как дорожу всем тем, что от него получил. Держался мистер Солтрам кротко, словно кающийся грешник; кругозор его был беспределен как истинная вера; возражал он застенчиво, но убедительно; до прощения снисходил еще красноречивей, нежели когда признавал промах. Вероятнее всего, наша встреча в Лондоне никоим образом не могла равняться с тем вошедшим в историю блистательным вечером в Уимблдоне, когда мисс Энвой впервые услышала вдохновенный монолог, а мы так и не разрешили до конца вопрос о количестве употребленного оратором живительного напитка; но в тот раз я был как бы вынут из происходившего, оставался в стороне; теперь же всем существом находился здесь, вбирая в себя каждое слово… К половине второго мой собеседник взошел уже на совершенно олимпийские высоты.