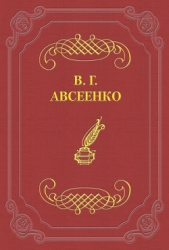Добыча

Добыча читать книгу онлайн
«Добыча» — один из лучших романов цикла «Ругон-Маккары» великого французского писателя Эмиля Золя (1840—1902). История авантюриста и биржевого игрока Аристида Саккара, делающего деньги из всего, что подвернется под руку, и его жены Рене, которую роскошь и распущенность приводят к преступлению, разворачивается на фоне блестящей и безумной жизни французской аристократии времен последнего императора Наполеона III.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Чего?.. — повторила Рене и умолкла.
Повернувшись, она глядела на странную картину, постепенно таявшую за ее спиной. Уже почти стемнело; медленно спускались пепельно-серые сумерки. В бледном свете, еще не угасшем над водой, озеро казалось издали огромным оловянным блюдом; зеленые деревья с тонкими прямыми стволами как будто вырастали из уснувшей водной глади и, словно лиловатые колоннады, обрисовывали своими правильными архитектурными формами причудливые изгибы берегов; а в глубине поднимались лесные массивы, неясные очертания чащи, черные пятна, закрывавшие горизонт. Позади этих пятен пламенело угасавшее зарево заката, охватывая только краешек необъятного серого пространства. Глубже и шире казался беспредельный небесный свод, раскинувшийся над неподвижным озером, над низкими перелесками, над своеобразным, плоским ландшафтом. И от широкого неба, простершегося над этим уголком, веяло трепетом и какой-то неопределенной печалью: с бледных высот нисходило столько осенней грусти, спускалась такая тихая, скорбная ночь, что Булонский лес, закутанный сумерками в темный саван, утратил весь свой светский вид и словно вырос, полный могучего очарования. Шум экипажей, яркие краски которых померкли в темноте, казался отдаленным шелестом листьев, рокотом ручьев. Все замирало. В смутных сумерках посреди озера четко вырисовывался парус большого катера для прогулок, освещенный последними отблесками заката, и ничего, кроме этого паруса, треугольника из желтой парусины, непомерно раздавшегося вширь, не было видно.
Рене не узнавала пейзажа; трепетная ночь превратила эту искусственную, светскую природу в священный лес с таинственными прогалинами, где древние боги скрывали свою исполинскую любовь, свои прелюбодеяния, свои олимпийские кровосмешения; и у пресыщенной Рене все это вызывало необычное ощущение, постыдные желания. По мере того как удалялась от леса коляска, ей казалось, что сумерки в своих серых зыбких покровах уносят землю, позорный, нечеловеческий альков, являвшийся ей в грезах, где она, наконец, утолит жажду своей больной души, своей усталой плоти. Когда озеро и рощицы слились с темнотой, выделяясь на горизонте лишь черной полоской, Рене вдруг обернулась и голосом, в котором слышались слезы досады, договорила прерванную фразу:
— Чего?.. Другого, черт возьми! Я хочу другого… Почем я знаю, чего!.. рели б я знала… Только, знаешь ли, хватит с меня балов, ужинов, кутежей. Всегда одно и то же. Это смертельно скучно… Мужчины надоели, да, да, надоели…
Максим засмеялся. В аристократических чертах светской дамы промелькнула страсть. Она больше не щурилась; морщина на лбу стала глубже и резче; горячие губы капризного ребенка как бы тянулись навстречу наслаждениям — которых она жаждала и не могла назвать. Рене видела, что спутник ее смеется, но была слишком возбуждена, чтобы остановиться; полулежа, отдаваясь мерному укачиванию коляски, она продолжала отрывисто и сухо:
— Конечно, вы, мужчины, несносны… Я говорю не о тебе, Максим, ты слишком молод… Но как невыносим был вначале Аристид, я и сказать не могу! А другие! Те, кто любил меня… Ты ведь знаешь, мы с тобой приятели, я тебя не стесняюсь, ну, вот: бывают дни, когда я так устаю от жизни богатой женщины, любимой, окруженной поклонением, что, право, хотела бы стать какой-нибудь Лаурой д'Ориньи, одной из тех дам, которые живут по-холостяцки.
Видя, что Максим смеется громче прежнего, Рене упрямо повторила:
— Да, Лаурой д'Ориньи. Это, должно быть, не так пресно, не так однообразно.
На мгновение она умолкла, как бы представляя себе жизнь, которую вела бы на месте Лауры.
— Впрочем, — продолжала она, — у этих дам, должно быть, свои заботы. Да, в жизни положительно мало забавного. Смертельная тоска… Я уже сказала, нужно что-то другое, понимаешь? Я не могу придумать, но такое, что ни с кем не случалось, что бывает не каждый день, какое-нибудь неизведанное, редкостное наслаждение…
Последние слова она проговорила медленно, с расстановкой, в глубоком раздумье. Коляска катилась теперь по аллее, которая ведет к выходу из Булонского леса. Еще больше стемнело; перелески вставали по сторонам, точно сероватые стены; чугунные стулья, выкрашенные желтой краской, на которых в погожие вечера восседают разодетые буржуа, стояли вдоль тротуаров, пустые, унылые, наводя тоску, какую всегда навевает садовая мебель зимой; а мерный и глухой стук колес возвращавшихся домой экипажей отдавался в пустынной аллее печальной жалобой.
Очевидно, находить жизнь забавной Максим считал признаком дурного тона. Правда, он был достаточно молод, чтобы с юношеским пылом отдаваться порой восхищению, но вместе с тем в нем было столько эгоизма, столько иронического безразличия, его одолевала такая усталость от жизни, что он не мог скрыть отвращения, пресыщенности и считал себя конченным человеком. Обычно он даже с известного рода гордостью признавался в этом.
Он развалился в коляске, как Рене, и томно произнес:
— А ты, пожалуй, права! Скука смертельная. Я не больше твоего развлекаюсь и тоже часто мечтал о другом… Что может быть глупее путешествий! Зарабатывать деньги? Я предпочитаю их тратить, хотя это тоже не так забавно, как думаешь вначале. Любить, быть любимым — скоро надоест, не правда ли? О да, все это быстро приедается!
Рене не отвечала. Он продолжал, желая поразить ее величайшим неверием:
— Я хотел бы, чтобы меня полюбила монахиня. Забавно было бы, а? Скажи, ты никогда не мечтала полюбить человека, одна мысль о котором была бы греховной?
Но Рене оставалась мрачной, и Максим, видя, что она попрежнему молчит, решил, что она его не слушает. Откинув голову на мягкую спинку коляски, она, казалось, спала с открытыми глазами, безвольно отдаваясь неотвязной мечте; по временам ее губы нервно подергивались. Мягкий сумрак, таивший в себе печаль, несказанную негу, сокровенные надежды, проникал ее насквозь, окутывал какой-то болезненно-истомной атмосферой. Устремив пристальный взгляд на круглую спину лакея, сидевшего на козлах, она, вероятно, думала о минувших радостях, о прошлом веселье, которого больше не хотела; перед ней проходила ее прошлая жизнь, немедленное исполнение всех ее желаний, отвращение к роскоши, подавляющее однообразие одних и тех же привязанностей, одних и тех же измен. И вдруг смутное желание пробуждало надежду на то, «другое», чего не могла подсказать ей напряженная мысль. Здесь ее грезы начинали расплываться. Она делала усилие, но нужное слово ускользало в надвигавшейся темноте, терялось в неумолчном грохоте колес. Мягкое укачивание коляски усиливало нерешительность, мешавшую ей точно выразить свое желание. Огромное искушение исходило от расплывчатых очертаний рощиц, дремавших по краям дороги, от стука колес, от упругих колыханий коляски; и Рене охватывало сладкое оцепенение, тысячи легких веяний пробегали по ее телу: прерванные грезы, запретные наслаждения, смутные желания — все то изысканное и чудовищное, что пробуждается в усталом сердце женщины, возвращающейся из Булонского леса в сумеречный час, когда бледнеет небо. Рене зарылась обеими руками в медвежью шкуру; ей было жарко в белом суконном пальто с сиреневыми бархатными отворотами. Она вытянула ногу, чтобы расположиться поудобнее, и нечаянно слегка коснулась лодыжкой ноги Максима, который даже не заметил этого. Рене вздрогнула, очнувшись от оцепенения. Она подняла голову, ее серые глаза остановились на изящно раскинувшейся фигуре Максима, и она посмотрела на него каким-то странным взглядом.