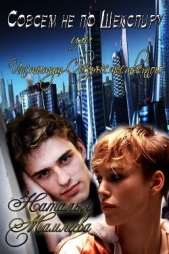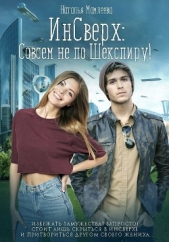Год Шекспира

Год Шекспира читать книгу онлайн
Далее — очередной выпуск рубрики «Год Шекспира».
Рубрике задает тон трогательное и торжественное «Письмо Шекспиру» английской писательницы Хилари Мантел в переводе Тамары Казавчинской. Затем — новый перевод «Венеры и Адониса». Свою русскоязычную версию знаменитой поэмы предлагает вниманию читателей поэт Виктор Куллэ (1962). А филолог и прозаик Александр Жолковский (1937) пробует подобрать ключи к «Гамлету». Здесь же — интервью с английским актером, режиссером и театральным деятелем Кеннетом Браной (1960), известным постановкой «Гамлета» и многих других шекспировских пьес. Перевод Елены Малышевой. Завершает рубрику — глава из поэмы американского поэта Хаима Плуцика (1911–1962) «Горацио» в переводе Антона Нестерова. Вот что он пишет, среди прочего, в своем предисловии: «…в глазах датского двора и народа Дании Гамлет — всего лишь убийца законного властителя, а история, рассказанная Призраком, никому, кроме принца и Горацио, не известна. Свидетельство Горацио — последнее и единственное оправдание принца. И на этом Плуцик строит свою поэму».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Александр Жолковский
Разгадка Гамлета
Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры.
Гамлета походя называют гением <…> Если Гамлет гений, то это или гениальный поэт, или гениальный артист.
И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?
Статьи Иннокентия Анненского мне читать трудно. Они написаны сто с лишним лет назад и в манере мне, в общем, чуждой. Проза поэта: импрессионистические прозрения, авгурские недомолвки, неуловимые ассоциации… Нужна настройка на единую волну с автором. И лучше бы это было написано, по выражению моего любимого коллеги, в столбик. Тогда другое дело. Тогда любые в бархат ушедшие звуки, какие угодно невозможно, все эти вэ, эти зэ, эти эм и даже тю-тю после бо-бо схватываются на лету, без вопросов.
А статьи приходится одолевать с усилием — то и дело заглядывая в комментарии и в обсуждаемые тексты. Про Гончарова и Обломова еще более или менее понятно, а про юмор Лермонтова в «Тамани» — ну никак. Тем более что в самой «Тамани» ничего загадочного — кроме несложной игры в загадочность — как будто нет, и где там какой-то юмор, да еще в противовес Гоголю, ума не приложу.
Не хватает простого ощущения, что я — собеседник автора, что он обращается к кому-то вроде меня. А чтение с комментариями дает лишь иллюзию взаимопонимания, некое условное соглашение о намерениях, поскольку пропадают оттенки интонации, которые вообще важны для ориентировки в чужом дискурсе и совершенно необходимы при попытках следовать за прихотливой тропикой поэта-эссеиста.
Бывает, конечно, хуже. Шекспир писал еще тремя столетиями раньше, плюс на другом языке, но сегодня и англоязычному читателю не обойтись без глосс и комментариев, часто разноречивых. А понимать «Гамлета» очень хочется. Он, разумеется, переведен, причем лучшими мастерами, да я и по-английски знаю прилично, и перечитывал его неоднократно, и смолоду видел на сцене в исполнении таких звезд, как Майкл Редгрейв и Пол Скофилд, а потом на экране со Смоктуновским и на «Таганке» с Высоцким, но непосредственного понимания, что́ это за человек и что́ им движет каждую минуту сценического времени, у меня нет. Какой в его речах и позах каждый раз процент притворства, какой — иронии, какой — любви, философствования, самоуничижения, отчаяния, я по большей части вычисляю и прикидываю, а не чувствую.
Многие места, конечно, попадают в точку.
Например, когда в фильме Козинцева (1964) Гамлет-Смоктуновский пропевает с эдаким высокомерно-ироническим надрывом: «На мне игра-а-ть нельзя-а-а-а!» (в ответ на попытки Розенкранца и Гильденстерна манипулировать им, хотя, как выясняется, Гильденстерн не умеет играть даже на предназначенной для этого флейте).
Или когда, перечитывая в энный раз «Гамлета», вдруг впервые замечаешь ремарку в конце III действия, после знаменитой сцены с Гертрудой: «Уходят врозь, Гамлет — волоча Полония» (перевод Лозинского). У Пастернака примерно то же: «Расходятся врозь, Гамлет — волоча Полония». Я не поверил своим глазам и заглянул в оригинал, так там прописан еще и «труп/тело»: «Exeunt severally; Hamlet, dragging in the body of Polonius».
Мне сразу вспомнилось похожее (думаю, не случайно) место у Пушкина. Заколов Дон Карлоса, нового поклонника Лауры, и намереваясь — вопреки ее протестам: «Постой… при мертвом!.. что нам делать с ним?» — тут же приступить к объятиям, Дон Гуан говорит: «Оставь его: перед рассветом, рано, Я вынесу его под епанчою И положу на перекрестке» (сц. II).
О пренебрежительном обращении с Полонием и его трупом напоминают в «Каменном госте» и размышления Гуана перед статуей Командора:
Каким он здесь представлен исполином! <…> А сам покойник мал был и [т]щедушен. <…> Когда за Эскурьялом мы сошлись, Наткнулся мне на шпагу он и замер, Как на булавке стрекоза… — а был Он горд и смел — и дух имел суровый… (сц. III).
Ср.
ГАМЛЕТ (обнажая шпагу). Что? Крыса? (Пронзает ковер.) Ставлю золотой, — мертва! <…> Я оттащу подальше потроха… <…> / Да, вельможа этот Теперь спокоен, важен, молчалив, / А был болтливый плут, пока был жив (III, 4) [2].
Все такое помогает подойти к Шекспиру поближе и как бы попробовать его на язык. И все же — для меня — «Гамлет» во многом остается каким-то обязательным уроком классики, с академической почтительностью рассматриваемым сквозь тусклое стекло. А хотелось бы вбирать его так же бездумно и безусловно, как с ходу глотаются тот же «Каменный гость», ну и «Евгений Онегин», «Ревизор», «Мастер и Маргарита», романы о Бендере, шекспировский «Иван Грозный» Эйзенштейна…
Или, скажем, отчасти шекспировский фильм Э. Рязанова «Берегись автомобиля!» (1966). Отчасти — потому что в целом сюжет там все-таки не гамлетовский, а какой-то, что ли, робингудовско-донкихотский. Но Гамлет в нем задействован, и играет его — в самодеятельном спектакле внутри фильма, своего рода «Мышеловке», — тот же Смоктуновский. А режиссер самодеятельного театра (в исполнении Е. Евстигнеева) произносит перед актерами программную речь о театре.
…Развитие народного самодеятельного искусства идет вперед семимильными шагами. Веяния времени коснулись, наконец, и нас, коллективов самодеятельности. Нас стали укрупнять, создавая, так сказать, народные театры, можно сказать, из клубных команд формируют сборные. <…>
Мы создаем сегодня новый народный театр. <…> Наш <…> народный театр, создается, так сказать, из двух дружественных коллективов. Э… из коллектива милиции и, так сказать, это… шоферов. <…>
Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят наконец театры профессиональные! И это правильно! Когда я работал в театре, и меня… это, ну это неважно… и естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с бо́льшим вдохновением. <…> Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете… работала у шлифовального станка.
Звание народного театра ко многому обязывает. <…> Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вилья́ма, понимаете, нашего Шекспира?
Фильм был очень злободневный, полный намеков, адресованных тогдашнему зрителю, которые уже сейчас, не говоря о «через четыреста лет», нуждаются в комментариях. Расшифровки требует, например, намек на тотальный контроль государства над искусством, содержащийся в перспективе вытеснения настоящих театров «народными», милицейскими, под руководством режиссера-неудачника, — по некоторым признакам, бывшего футбольного тренера.
А еще один намек, уже не злободневный, а высоколобо-интертекстуальный, состоял в том, что замах на Шекспира включал, помимо очевидных перекличек, отсылку к беседам Гамлета с актерами. Гамлет, как мы помним, хвалил их, восхищался их умением вживаться в роль, учил не рвать страсть в клочья, интересовался их успехами на лондонской сцене, близкой, понятное дело, не столько датскому принцу, сколько его автору — английскому актеру и драматургу. И выяснялось, что они страдают от неожиданной конкуренции:
ГАМЛЕТ. …Что это за актеры?
РОЗЕНКРАНЦ. Те самые, которые вам так нравились, — столичные трагики.
ГАМЛЕТ. Что их толкнуло в разъезды? <…> Ценят ли их так же, как тогда, когда я был в городе? <…>
РОЗЕНКРАНЦ. Они подвизаются на своем поприще с прежним блеском. Но в городе объявился целый выводок детворы, едва из гнезда. <…> Сейчас они в моде и подвергают таким нападкам старые театры, что даже военные люди не решаются ходить туда из страха быть высмеянными в печати.
ГАМЛЕТ. Как, эти дети такие страшные? Кто их содержит? <…> А позже, когда они сами станут актерами обыкновенных театров… <…> не пожалеют ли они, что старшие восстанавливали их против собственной будущности? <…> И мальчишки одолевают?
РОЗЕНКРАНЦ. Да, принц. И Геркулеса с его ношей… (II, 2) [3].