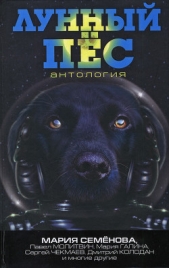Собрание сочинений. Т. 3

Собрание сочинений. Т. 3 читать книгу онлайн
Сергей Бочаров: …В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…». Тогда – «Степь да степь…», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписы- вать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творче- ства – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых).«Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика. Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок … Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем . Лироэпос народной жизни. Садись, жена, в зелененький вагон…В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит…», «Потонула во мгле отдаленная пристань…» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ… – впрочем, это до- письменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожинов, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе… Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Идиотик… все отшучиваешься, когда… когда…
– Что «когда»?
– Овчинников, вице-президент, собрал нас… расформировывают… Боровцев выдал военные тайны… обвинил в подготовке бактериологической войны… передали по «голосам»…
– Котя, – говорю проницательно, – без работы не останешься… Может, с дружком твоим часовымчто-то стряслось? За ними ведь следят… От тебя попахивает, – говорю, – не служебной заботой, а чистосердечной болью…
– Ничего подобного, – воскликнула Котя с такой страстной правдивостью, что я только усмехнулся про себя печально и мудро, поставил новую, словно воскрешенную пластиночку и раскрываю объятия, как в танцзале.
– Давай, милая жена, станцуем «Афганистанго», – вырвалось из меня ни с того ни с сего, словно блоха, жутковатая шуточка. Я думал, что она приведет Котю в ужасное бешенство, начнутся обвинения и упреки в юродивом фиглярничании и бесконечном цинизме, но Котя обвила вдруг мою шею руками… пластиночка сталинских времен поскрипела, покорябалась об иголку… был день осенний… и листья грустно опадали… в последних астрах… печаль хрустальная жива… сле-е-езы-ы… ты безутешно проливала… ты не любила-а-а… и со мной прощалась ты… я водил ее по комнатам и по кухне полуголый, поглядывая в трюмо на расчесанную свою до крови спину и смиренно вдыхая застоявшийся в Котиной прическе одинокий… тоскливый… кирзовый… оружейный… табачный… омерзительный… мавзолейный… кремлевский смердюнчик… Котя повздыхала, повздыхала в любимом, располагающем к примирению с жизнью, старинном… и листья грустно опадали… букетик милицейских астр я так и держал по-прежнему в руке… повздыхала, потом потянулась, танцуя, к графину коньячка, глотнула на ходу и не без восторга повторила:
– Афганистанго!… все-таки народ шутит, народ улыбается… шикарная хохма… завтра продам ее в институте… пожалуй, Серый, давай закусим…
Но я не мог уже ни пить, ни закусывать – повалился прямо на пол, после всех потрясений дня, а проснулся в середине ночи от приступа чесотки. Почесался-почесался, разделся и пошел на свое место. Котя, оказывается, не спала. Не могу, говорит, уснуть… Все рухнуло из-за сволочи Боровцева. Прощай – выезды и московская светская жизнь. Поговаривают, что у твоего генерала большие неприятности. Наверху его не любят как брежневскую шестерку… Возможно, сошлют в Монголию… Так и надо. Очень уж самонадеян и нагл… «мы…» «нас…»Домыкался-дона-скался…
Я ничего не ответил. Любой поворот такого рода был мне только на руку. Может, вообще про меня забудут и оставят в покое?… Навряд ли… навряд ли…
Внезапно я вспылил. Вам – сволочам – не премии надо давать, а штрафовать, говорю, наоборот, за выдающуюся халтуру. В отчетах ты небось очки втираешь насчет того, что «Надежда Афганщины» кусает лишь тела басмачей, а к плоти наших солдат, офицеров и генералов относится миролюбиво и с привитой симпатией… Но что мы видим на деле? В «письках» ваших выведенных никакой нет симпатии к советскому человеку – одна бешеная ненависть и ненасытная жажда кусануть побольнее. Разоблачат – быть беде и концу научной карьеры…
«Откуда это ты взял, что “письки” кусают солдат, офицеров и генералов? Ты не солдат, не офицер и тем более не генерал. Тебе так и хочется, чтобы я обгадилась на работе. Спишь и видишь мое фиаско…» «Просто предупреждаю, – осекся я, чуть было не проговорившись. – Неужели ж блохи столь умны, что отличают штатскую телесность от военной барабанины?» «Насекомые гораздо умней человека по способности оптимально разрешать главнейшие жизненные задачи», – сказала Котя неприятно назидательным голосом. «Спасибочки, – говорю, – будем знать и помнить…» «Скорей всего, – продолжала Котя свои ночные беспокойные раздумья, – закроют и меня, и тебя. Весь институт вывезут на периферию. Ожидается много шума в западной прессе из-за признаний этой оставшейся мрази… Ты думаешь, Боровцев диссидент? Карьерист и подонок, бросивший жену с двумя детьми… С другой стороны, Серый, и между нами говоря… я бы и сама, к чертовой матери, осталась… если бы мы вместе поехали по туристической… надоело… надоело… надоело… налей, умоляю, рюмочку и нарежь лимон… завтра никуда не пойду… вызову врача… сердечный приступ… надоело…»
«А без меня, – спрашиваю, – осталась бы там?» «Дурак… я уже не девочка и не Светлана Сталина – болтаться туда-обратно… Без тебя бы я не смогла, а на этих- плевать… надоело… будь онивсе прокляты, Серый… поставь… ха-ха-ха… Афганистанго…»
Ночная выпивка печальна и спокойна, господа… Мы пили и пили. Я без конца заводил… был день осенний, и листья грустно опадали… в последних астрах печаль хрустальная жива… Букетик же милицейских астр ожил в комнатной темноте и в ночной прохладе. От стойкого и тяжкого запашка этих похоронных цветов кладбищенская тоска проникла в мое сердце осенней ночью и поселилась в нем навсегда как память о чем-то навеки утраченном… На-до-е-ло, господа, на-до-е-ло… Сколько можно?
Вермонт, 1986
ПРИЗНАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЕКСОТА
Дело было, надо полагать, зимой. Говорю «надо полагать», ибо в тот, нынче вспоминаемый, день похмельное мое сознание пребывало в настолько мерцательном и тусклом виде, что ему было не до обмозговывания ряда каких-то очевидных обстоятельств.
Не все ли равно сознанию, если оно вообще готово от-мерцать при небывалом сужении сосудов, что за время года на дворе, какое вокруг располагается жестокохарактерное государство и в каком, собственно, теле оно еще мерцает – в теле муравьеда, изнемогающего от шевеления во рту живой, спиртосмердящей массы, гиенокошки с вылезшими из орбиты гнойными глазками или давно знакомого сознанию полуодетого кентавра…
Поверьте, господа, в результате многолетних злоупотреблений в момент критического сужения сосудов как головного, так и спинного мозгов, не говоря уже о сосудах замирающего сердца, стал я привидеться самому себе в ужасающих обличьях… К чести своей – лишь в ужасающих.
Никогда не привиделся я себе ни в обличьях наделенной властью свиньи, ни известного артиста в ратиновом пальто, ни директора Центрального рынка, ни теоретика физики, ни даже продавца винно-водочного отдела гастронома № 1. Никогда… Привычней всего, повторяю, было мне ощущать свой надтреснутый организм в форме кентавра…
Ежели накануне, то есть дней за семь до вынужденного стояния в очереди у ПУПОПРИПУПО, жрал я нечто аристократическое типа водки с коньяками, то полуодет бывал снизу. Верх же весь приходился на голую лошадинообраз-ную внешность с прядающими от каждого мелкого звука ушами, отвисающей губой, желтыми зубами и с глазами в темных очках. В них мир не казался ярко торжествующим над моим поразительным ничтожеством. А очередища и не к таким видам привыкла.
Но если приходилось мне выжирать, соответственно, какую-нибудь очередную дрянь, сочиненную советской ебаной властью, то полуодетым я оказывался сверху. На низ же я робел глянуть хоть ненароком, ибо кто вынесет таковое захребетное зрелище без риска повредить остатки непоправленного еще здоровья? Кто, не содрогнувшись до самого основания, способен обозреть открывшиеся ему сногсшибательные подробности в виде всего конского вплоть до срамотствующей промеж буланых ног пегой тря-хомудии, хвоста, засоренного репьями быта, и необутой парнокопытности? Да никто не сможет…
И я не мог, но вынужден был тратить остатки разумной воли на изгнание из пылающего воображения нежелательных деталей своей опустившейся внешности…
Так вот, я погибал в то утро, господа, двигаясь вместе с соседями по очередище к желанному проему ПУПОПРИ-ПУПО. И всенепременно погиб бы, ежели не привык к по-гибанию подобного рода.
Уже готовилась верхняя моя полуодетая половина всхрапнуть от недостатка воздуха и слюны, а нижняя откинуть копыта, уже смирился я с тихим, с медленным, как в помещении кино, гаснущим в сознании светом дня, но был неожиданно возрожден к бытию случайным спасителем…
Кто-то тыркнул меня ощутительно в бок так, что дрожью передернуло мою шкуру, и грубо сказал: «Приложись, современник».