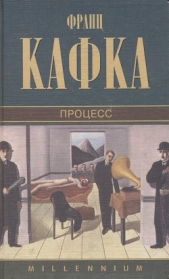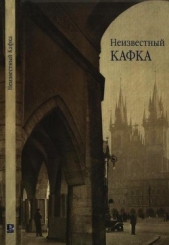Ангелы не летают

Ангелы не летают читать книгу онлайн
Вниманию читателя предлагаются рабочие тетради Франца Кафки, где помимо дневниковых записей содержатся отрывки из задуманных рассказов, «летучие заметки», афоризмы, фантастические сценки, выхваченные из темноты внутренней вспышкой, а также пьеса «Сторож склепа». Эти записи предоставляют уникальную возможность заглянуть в мир великого писателя, застав его в процессе становления, подслушать нескончаемый внутренний монолог. Художественный мир Кафки сновидчески зыбкий, захватывает читателя, затягивает в узнаваемо-неузнаваемое пространство, пробуждает и предельно усиливает ощущения, которые до этого были скрыты где-то в глубинах его потаенного «я». И это важно, ведь еще Борхес некогда сказал: «Кафка все еще дает нам шифр нашего времени».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вскоре я узнал, что напротив ратуши помещается «Большой театр» — самый лучший, самый красивый во всей Варшаве, да и во всем мире. С этого момента уже внешний вид здания буквально ослеплял меня, когда я проходил мимо театра. Но стоило мне дома однажды поинтересоваться, когда мы уже наконец пойдем в Большой театр, как на меня тут же накричали: еврейский ребенок не должен ничего знать о театре, это не разрешено, театр существует только для гоев и грешников. Ответ меня удовлетворил, я больше уже ничего не спрашивал, но лишился покоя и очень боялся того, что когда-нибудь обязательно совершу этот грех и, когда стану старше, все-таки непременно пойду в театр.
Однажды вечером после Иом Кипура [117] я с двумя кузенами проезжал мимо Большого театра; на улице у входа было множество людей, я просто не мог оторвать глаз от этого «нечистого» театра, и кузен Майер спросил: «Ты бы тоже хотел быть там, наверху?» Я промолчал. Мое молчание ему, по всей вероятности, не понравилось, и поэтому он прибавил: «Сейчас, детка, там нет ни одного еврея — Боже сохрани! Вечером, сразу после Иом Кипура, даже самый последний еврей не пойдет в театр». Из этих слов я, однако, извлек лишь то, что хотя, выйдя после святого Иом Кипура, ни один еврей в театр не пойдет, но в обычные вечера на протяжении всего года многие евреи, по-видимому, туда ходят.
На четырнадцатом году моей жизни я впервые побывал в Большом. Как ни мало я усвоил язык страны, афиши читать я мог, и однажды я прочитал на них, что будут давать «Гугенотов». Об этих «Гугенотах» уже говорили в нашем «монастыре», к тому же написал их еврей «Мейер Бер», так что я сам дал себе разрешение, купил билет и вечером впервые в жизни оказался в театре.
Что я тогда увидел и почувствовал, к моей теме не относится, скажу только одно: я пришел к убеждению, что там пели лучше, чем кузен Хаскель, и костюмы были тоже намного лучше, чем у него. И еще одно удивление, которое я вынес со спектакля: балетную музыку «Гугенотов» я, оказывается, давно уже знал, ведь на эти мелодии пели в «монастыре» «Леха Доди» [118] по пятницам вечером перед шабатом. И я не мог тогда уяснить себе, как это возможно, что в Большом театре играют то, что уже так давно поют в «монастыре».
С тех пор я стал в опере частым гостем. Я только не должен был забывать покупать на каждое представление воротничок и пару манжет, а по дороге домой выкидывать их в Вислу. Мои родители не должны были видеть таких вещей. В то время как я наслаждался «Вильгельмом Теллем» или «Аидой», мои родители пребывали в твердой уверенности, что я сижу в «монастыре» над фолиантами Талмуда и штудирую Священное Писание.
Спустя некоторое время я узнал, что существует и еврейский театр. Но как ни хотелось мне пойти туда, я не осмеливался, так как это очень легко могло стать известно моим родителям. Напротив, на оперы в Большой я ходил часто, а позднее — и в польский драматический. Там я впервые посмотрел «Разбойников». Меня страшно поразило, что можно создать такой замечательный театр без пения и музыки — никогда бы этого не подумал, — и, как ни странно, я не разозлился на Франца, наоборот, он произвел на меня наибольшее впечатление, я хотел бы играть его, а не Карла.
Среди товарищей в «монастыре» я был единственным, кто осмеливался ходить в театр. А в остальном мы, ребята из «монастыря», были уже знакомы со всеми «просвещающими книгами»; я тогда впервые прочел Шекспира, Шиллера, лорда Байрона. Правда, из книг еврейских авторов мне в руки попадали только большие криминальные романы на полунемецком-полуидиш, которыми нас снабжала Америка.
Прошло немного времени, и я уже не находил себе места: в Варшаве есть еврейский театр, а я не могу в него сходить? И я рискнул, бросил все на билетную карту и пошел в еврейский театр.
И это все во мне перевернуло. Еще до начала спектакля я почувствовал себя совершенно иначе, чем у «тех». Прежде всего никаких господ во фраках, никаких дам в декольте, никакого польского и никакого русского — одни евреи всех мастей в обычной городской одежде, долгополые, короткополые, женщины, девушки. Все громко и без стеснения говорили на родном языке, я в своем длинном кафтанчике никому не бросался в глаза, мне нисколько не приходилось стыдиться за себя.
Давали комическую драму с пением и танцами в шести актах и десяти картинах «Бал-Чуве [119] из Шумора». Начали не так точно в восемь, как в польском театре, а лишь где-то около девяти и закончили лишь далеко за полночь. Любовник и интриган говорили на «литературном немецком», и я был потрясен тем, что сразу — не имея даже понятия о немецком языке — смог так хорошо понять такой превосходный немецкий. А на идиш говорили только комик и субретка.
В общем, мне это понравилось больше, чем опера, драмтеатр и оперетта, вместе взятые. Потому что, во-первых, это все-таки было на еврейском, правда на немецко-еврейском, но все же на еврейском, на лучшем, на более красивом идиш, и, во-вторых, тут ведь было всё вместе: драма, трагедия, пение, комедия, танец — всё вместе, — жизнь! От возбуждения я не спал всю ночь; сердце говорило мне, что когда-нибудь и я буду служить в храме еврейского искусства, что и мне суждено стать еврейским актером.
Но на следующий день, вечером, отец отправил детей в соседнюю комнату, велев остаться только мне и матери. Инстинктивно я почувствовал, что эта «каша» заваривается для меня. Отец уже не садится, он все время ходит по комнате взад и вперед, теребя свою маленькую черную бороду, и говорит, обращаясь не ко мне, а только к матери:
— Ты должна знать, он становится хуже день ото дня, вчера его видели в еврейском театре.
Мать испуганно всплескивает руками, отец, совершенно белый, беспрерывно ходит по комнате взад и вперед, у меня сжимается сердце, я сижу, как приговоренный, я не могу видеть эту боль моих дорогих набожных родителей. Мне уже не вспомнить сегодня, что я тогда говорил, помню только, что после нескольких минут подавленного молчания отец поднял на меня свои большие черные глаза и сказал:
— Подумай, дитя мое, это заведет тебя далеко, очень далеко.
И он был прав.
8.8. В конце концов в трактире остался, кроме меня, еще только один посетитель. Хозяин собрался закрывать и попросил меня расплатиться.
— Там еще один сидит, — сказал я брюзгливо, так как понимал, что уже пора, но не имел никакого желания ни уходить отсюда, ни вообще идти куда бы то ни было.
— С этим сложности, — сказал хозяин, — не могу объясниться с человеком. Вы мне не поможете?
— Эй! — крикнул я сквозь сложенные рупором ладони, но человек не пошевелился и так же спокойно, как до этого, продолжал смотреть, наклонив голову, на пиво в своем стакане.
8.9. [120] Была уже поздняя ночь, когда я позвонил у ворот. Прошло немало времени, пока не появился — явно из глубины двора — кастелян и не открыл мне.
8.10. — Господин просит пожаловать, — сказал слуга, склонился и бесшумным толчком отворил высокую стеклянную дверь.
Граф чуть ли не бегом спешил мне навстречу от своего письменного стола, стоявшего у открытого окна. Мы взглянули друг другу в глаза, его жесткий взгляд неприятно поразил меня.
8.11. Я лежал на земле под стеной и корчился от боли, мне хотелось завернуться в эту влажную землю. Егерь стоял около меня, слегка наступив мне одной ногой на поясницу.
— Порядочная туша, — сказал он загонщику, разрезавшему на мне воротник и куртку, чтобы ощупать меня.
Уже утомившиеся мной и жаждавшие новых дел собаки бессмысленно наскакивали на стену. Подъехала повозка; связанный по рукам и ногам, я был брошен на заднее сиденье к господину так, что мои голова и руки свешивались наружу. Ехали весело; умирая от жажды, я хватал раскрытым ртом высоко клубившуюся пыль; время от времени я слышал на своих икрах радостные пожатия господина.