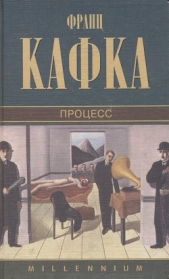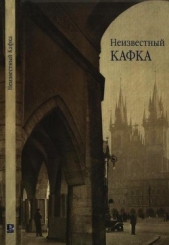Ангелы не летают

Ангелы не летают читать книгу онлайн
Вниманию читателя предлагаются рабочие тетради Франца Кафки, где помимо дневниковых записей содержатся отрывки из задуманных рассказов, «летучие заметки», афоризмы, фантастические сценки, выхваченные из темноты внутренней вспышкой, а также пьеса «Сторож склепа». Эти записи предоставляют уникальную возможность заглянуть в мир великого писателя, застав его в процессе становления, подслушать нескончаемый внутренний монолог. Художественный мир Кафки сновидчески зыбкий, захватывает читателя, затягивает в узнаваемо-неузнаваемое пространство, пробуждает и предельно усиливает ощущения, которые до этого были скрыты где-то в глубинах его потаенного «я». И это важно, ведь еще Борхес некогда сказал: «Кафка все еще дает нам шифр нашего времени».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Аналогичным образом и государственные перевороты, и современные войны, как правило, наших людей затрагивают мало. Мне вспоминается в связи с этим один эпизод из моей юности. Как-то в одной соседней, но тем не менее очень далекой провинции вспыхнуло восстание. Причин я уже не помню, но они здесь и не важны; причины для восстаний возникают там каждый день, там очень неспокойный народ. И вот однажды какой-то попрошайка, пришедший из той провинции, принес листовку повстанцев в дом моего отца. А как раз был какой-то праздник. Наши комнаты были полны гостей, и в центре сидел священник и изучал этот листок. Вдруг все начали смеяться, листок этот в толкотне разорвали, а попрошайку, который, впрочем, уже получил богатое подаяние, выгнали из комнаты в толчки; все развеселились и выбежали на воздух. Почему? Диалект соседней провинции существенно отличается от нашего, и это находит свое выражение также и в определенных формах письменной речи, которая для нас звучит несколько архаично. И как только священник прочел две такие страницы, все уже было решено: старые дела, давно было, давно отошло. И хотя — так мне это представляется в воспоминаниях — все в этом попрошайке неопровержимо говорило о самой ужасной жизни, люди смеялись, качали головами и не хотели больше ничего слушать. Вот так у нас готовы перечеркивать современность.
Если из таких явлений кто-то пожелает сделать вывод, что, в сущности, у нас вообще не было императора, он будет недалек от истины. Я должен вновь повторить: быть может, нет более верного императору народа на юге, чем наш, но эта верность для императора бесполезна. И хотя на маленькой колонне при выходе из деревни стоит священный дракон, с незапамятных времен почтительно направляя свое огненное дыхание в сторону Пекина, но сам Пекин людям в деревне намного более чужд, чем потусторонний мир. Да и есть ли в самом деле такая деревня, где бы дома, стоя вплотную друг к другу, тянулись, покрывая поля, дальше, чем хватает взгляда с нашего холма, а между этими домами днем и ночью стояли бы люди, голова к голове? Чем представить себе такой город, нам легче поверить в то, что Пекин и его император — это что-то единое, что-то вроде облака, медленно плывущего под солнцем в хороводе времени.
Ну а следствием таких воззрений является в какой-то мере свободная, никакой властью не обузданная жизнь, — нет, никоим образом не безнравственная, такой чистоты нравов, как на моей родине, я, пожалуй, нигде и не встречал в своих путешествиях, но все же — такая, которая не подчиняется никаким ныне существующим законам и следует лишь предначертаниям и предостережениям, перешедшим к нам от прежних времен.
Я остерегаюсь обобщений и не утверждаю, что так обстоят дела во всех десяти тысячах деревень — или даже во всех пятистах провинциях Китая. Тем не менее на основании многих трудов на эту тему, которые я прочел, а также на основании моих собственных наблюдений — в особенности при строительстве стены обилие человеческого материала давало способному чувствовать возможность путешествий в душах почти по всем провинциям, — на основании всего этого я могу по-видимому, сказать, что в господствующем отношении к императору везде вновь и вновь проявляется некая определенная основная черта — та же, что присутствует и в отношении к нему на моей родине. Это отношение, кстати, я вовсе не хочу представить в качестве какой-то добродетели, наоборот. Хотя в основном виновато в нем правительство, которое в старейшей империи земли до сего дня не в состоянии было — или не удосужилось, занимаясь другими делами, — довести имперские институты до такой ясности, чтобы они непосредственно и непрерывно действовали вплоть до самых дальних границ государства. Но, с другой стороны, в нем проявляется все-таки и некоторая слабость воображения или веры народа, который не созрел для того, чтобы извлечь императора из пекинского небытия и как нечто совершенно живое и насущное прижать его к своей верноподданнической груди, которая ведь ничего лучшего и не желает, как только почувствовать когда-нибудь это прикосновение и замереть в нем навеки.
Так что добродетелью такое отношение, очевидно, не является. Тем удивительнее, что именно эта слабость, похоже, является одной из важнейших основ объединения нашего народа, более того — если позволительно так далеко заходить в выражениях, — буквально почвой, на которой мы живем. Однако здесь исчерпывающе обосновать какой-то упрек — значит лишить покоя не нашу совесть, а наши ноги, что значительно хуже. И потому я пока не хочу слишком углубляться в исследование этого вопроса.
И вот в этот мир ворвалось известие о строительстве стены. Оно тоже запоздало, придя лет через тридцать после объявления о начале строительства. Был летний вечер. Мы с моим отцом — мне было тогда десять лет — стояли на берегу реки. Соответственно значительности этого часто обсуждавшегося момента, я запомнил мельчайшие обстоятельства. Отец держал меня за руку — он до глубокой старости любил держать меня за руку, — а другая его рука скользила по длинной, чрезвычайно тонкой трубке, словно это была какая-то флейта. Его длинная жидкая жесткая борода торчала вперед; наслаждаясь трубкой, он смотрел поверх реки в вышину. От этого его коса — предмет восхищения детей — спускалась еще ниже, слегка шурша по расшитому золотом шелку праздничной одежды. И тут перед нами остановилась баржа; шкипер кивнул моему отцу, чтобы он спустился к воде, и сам начал подниматься по склону ему навстречу. На полпути они встретились, и шкипер прошептал что-то отцу на ухо; он даже обнял отца, чтобы совсем близко к нему подойти. Я не знал, о чем идет речь, видел только, что отец, кажется, известию не поверил; шкипер старался убедить отца в его истинности, отец все еще не мог поверить; шкипер, с матросской страстностью доказывая истинность своих слов, почти разорвал у себя на груди одежду; отец приумолк, и шкипер, ругаясь, вскочил в баржу и уплыл. Отец в задумчивости повернулся ко мне, выбил трубку, засунул ее за пояс, потрепал меня по щеке и прижал мою голову к себе. Я любил это больше всего, это переполняло меня радостью, — и так мы и пришли домой. А там на столе уже дымилась рисовая каша, и собрались гости, и как раз наливали в чашки вино. Но, не обращая на это внимания, отец прямо с порога начал пересказывать то, что он услышал. Слов его я, естественно, точно не помню, но смысл их, в силу исключительности обстоятельств, воздействовавших даже на ребенка, настолько врезался мне в память, что я все же беру на себя смелость воспроизвести его, так сказать, дословно. Я делаю это потому, что сказанное тогда было очень характерно для народного восприятия. Так вот, отец говорил примерно следующее. Один чужой шкипер — я знаю всех, которые обычно у нас проплывают, но этот был чужой — только что рассказал мне, что собираются строить какую-то великую стену, чтобы защитить императора. Потому что перед императорским дворцом часто собираются толпы неверующих (а среди них есть и демоны) и пускают в императора свои черные стрелы.
Стыдно сказать, на чем держится власть императорского наместника в нашем горном селении. Если бы мы захотели, его немногочисленные солдаты были бы тут же разоружены, а подкрепления, даже если бы он смог его вызвать — а как бы он это смог? — ему пришлось бы ждать днями и даже неделями. Так что он целиком зависит от нашего повиновения, но не старается добиться его ни жестокой тиранией, ни подкупающей душевностью. Почему же мы терпим его ненавистное правление? Нет никаких сомнений: только ради его взглядов. Когда входишь в его рабочий кабинет, который столетие назад был залом совета наших старейшин, он сидит в мундире за письменным столом с пером в руке. Возвеличиваться или тем более ломать комедию он не любит, поэтому не продолжает писания, заставляя посетителя ждать, а сразу же прерывает свою работу и откидывается на спинку кресла, не выпуская, правда, пера из руки. И вот в таком положении, откинувшись назад и засунув левую руку в карман брюк, он смотрит на посетителя. Просителю кажется, что наместник видит не только его — неизвестного, на мгновение вынырнувшего из людской толпы, потому что иначе зачем наместнику так внимательно, и долго, и молча на него смотреть? К тому же это не тот острый, испытующий, сверлящий взгляд, который может быть, видимо, устремлен на отдельного человека, а небрежный, рассеянный, хотя, впрочем, и неотступный взгляд, — взгляд, которым следят, скажем, за перемещением человеческих масс где-то вдали. И этот долгий взгляд все время сопровождается какой-то неопределенной улыбкой, в которой видится то ирония, то мечтательное воспоминание.