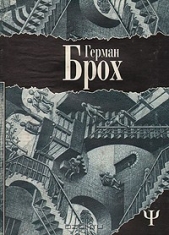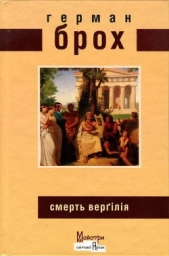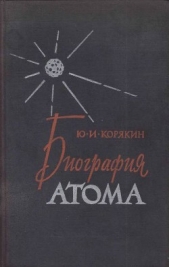Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
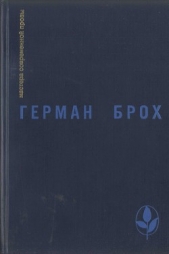
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все же от тех пространств ему было не уйти: они напоминали о себе, особенно когда он с неохотой думал о возвращении домой. Все дольше длилось его отсутствие, все короче был отдых в городском жилище, которое стало совсем чужим. Может быть, он боялся обеспокоить Мелитту; он любил ее как дочь, но она не была его плотью и кровью, а теперь она расцветала, становилась молодой женщиной. Однако еще больше он боялся, что странности его судьбы могут искривить линию жизни столь юного и еще не твердо стоящего на ногах существа и направить его по такому же странному пути — опасность, которую он должен был непременно предотвратить. Когда после короткого пребывания в городе он снова собирался в путь и она, как всегда, просила его не спешить, он смеялся: «Волк коню не товарищ», и не успеет она оглянуться, а уж он поцелует ее крепко в обе щеки и след простыл. Потом он стал избегать и такого прощания, а просто исчезал и посылал привет по почте. Когда же он покидал город, то вздыхал свободно; он больше не был его, невольником, у него не было дома, не было крыши над головой: в плохую погоду, ничего не поделаешь, приходилось ночевать в селе у кого-нибудь из крестьян; но, если представлялась хоть малейшая возможность, он спал на вольном воздухе, в колыбели, которую качают и жизнь, и смерть, нерасторжимо единые. А когда в ночной тьме или пред утренней зарею он обнаруживал пробуждающееся вновь удивление души своей, которая всматривалась в парящий над нею небосвод, вслушивалась в покоящуюся под нею тишину земли, то сам он становился парящим и покоящимся чаянием цельности, самой цельностью, которая, вобрав в себя цельность бытия, в то же время была ее частицей. Земля под ногами и собственная плоть едины с холодным мерцанием звезд, перелитые в него, перелитые в саму готовность мертвой материи к жизни, тогда как многообразие живого кругом и многообразные проявления жизни в нем самом, в его собственной живой плоти, его собственном живом сердце вместе с ударами пульса обнаруживали готовность вернуться к неживому. И этот до предела напряженный обмен между полюсами живого и неживого был самим естеством, был теми глубинными приливами и отливами цельности, тем священным естеством вечности, что взлелеяна бесконечной сменой жизни и смерти, тем священным естеством пространств, что принимают в себя человека, пока он беспрекословно покоряется им. Старик покорился, и его пробуждение было знанием о священных пространствах, в которых он пребывал.
Он был ремесленником, а теперь стал странствующим мастером и учителем. Но когда он брел по долам и весям и пел, белобородым седовласый богатырь, пространства окутывали его, как священный плащ, и был он заговорен от пчел, заговорен от жизни, заговорен от смерти.
V. РАССКАЗ СЛУЖАНКИ ЦЕРЛИНЫ
© Перевод Ю. Архипов
Часы на городских церквах только что пробили два раза вразнобой и гулко; только тот, оставшийся от барокко, похожий на карийон или куранты, звон, что доносился со стороны замка, мягкой линией холма взнесенного над городом, выделялся серебряной чистотой мелодии. Летний воскресный день клонился к закату скучнее и медлительнее, чем прочие дни недели, и А., лежа на кушетке в своей комнате, про себя отметил: скука воскресного дня — явление атмосферное; затишье обычной городской суеты передалось и воздуху, а кто не хочет ему поддаться, должен работать по воскресеньям с утроенной энергией. В будний день, изнывай ты даже от праздности, соборных часов не услышишь.
Работать? А. вспомнил о конторе, которую устроил себе в деловой части города; по временам он развивал там деятельность прямо-таки лихорадочную, чаще проводил дни в праздности, что не мешало его мыслям кружить вокруг денег и способов их добычи. Это его раздражало. В его нюхе на деньги, в уменье их делать было что-то жутковатое. Конечно, конечно, он любил и поесть, и выпить, и вообще пожить с комфортом. Но деньги как таковые он не любил — напротив, ему доставляло наслаждение дарить их. Откуда же эта сверхъестественная легкость, с которой он притягивал к себе деньги — в размерах, много превосходивших его потребности? Проблема, куда бы получше и посолиднее вложить деньги, всегда казалась ему сложнее, чем вопрос о том, как их заработать. Теперь скупал он дома и землю чуть ли не даром, поскольку платил обесцененными марками. А радости это не доставляло никакой — почти тягостное исполнение долга.
Утром, из-за солнца, жалюзи были спущены, и хотя теперь надвинулась уже послеобеденная тень, он ленился поднять их. Да это было и кстати: в тени не так жарко, а вечером окна откроют. Лень, как всегда, оборачивалась ему на пользу. При этом он не то чтоб был по-настоящему тяжел на подъем, просто ему трудно давалось любое решение. Упорствуя, он ничего не мог добиться от судьбы, — нет, пусть судьба сама за него решает, а он всегда подчинялся ей, не теряя, впрочем, бдительности, даже некоторого коварства, необходимого при той несколько причудливой системе управления им, которую выработала сия решающая инстанция: судьба посылала ему опасности, от которых он бежал — на пути подбирая деньги. Безумный страх его перед выпускными экзаменами, перед застигающими врасплох экзаменаторами, которым в руки судьба вложила ужас кары, страсть к потрошению, перед натиском которой улетучивались последние знания, этот безумный страх заставил его пятнадцать лет назад бежать в Африку; без единого цента — ибо разгневанный выходкой сына отец дал лишь в обрез на дорогу — высадился он на побережье Конго, тугой на решения и без денег, но счастливый, потому что неизвестность не сулила экзаменов, требуя только веры в судьбу; он и поверил тогда в нее — податливо, но как бы с опаской; и потому-то — может, из-за опаски, а может, из-за податливости — деньги него с тех пор не переводились. Работал ли он помощником садовника, кельнером или клерком, он до тех пор удовлетворительно исполнял свои обязанности, которых в первое время переменил немало, пока не бывал спрошен о предшествующей подготовке и соответствии; спрашивали его об этом — и он немедленно оставлял место, унося, правда, всякий раз несколько большую сумму, потому что, как это водится в колониях, всегда находилась возможность подработать, а подработки вскоре превратились в основную работу. Забросило его в Капштадт, забросило его в Кимберли, забросило его в алмазный синдикат, совладельцем которого он стал, и все-то бросала его судьба, привычка уклоняться от неприятностей, от допросов-расспросов, грозивших ему тем-то и тем-то; он и припомнить не мог, чтобы вмешался во что-нибудь по собственной воле; нет, всюду несла его неповоротливая нерешительность, та деятельная неповоротливость, что была его верой в судьбу, с ней-то он всего и добился. «Неспешное пережевывание жизни, неспешное пережевывание судьбы», — сказало что-то в нем и перенесло его, благополучного и довольного, в сегодняшний день; пусть себе тает, сходит на нет воскресенье, пусть остаются опущенными жалюзи, в любом случае все обернется как нельзя лучше.
Тут — вероятно, после робкого стука — дверь приотворилась, и в нее просунулась голова старой служанки Церлины.
— Вы спите?
— Нет, нет… Входите, входите.
— А она спит.
— Кто? — Вопрос был дурацким. Конечно же, старая баронесса.
По морщинам пробежал почти незаметный бриз презрения.
— Да эта… Крепко спит. — И тут же она добавила, словно подтверждая незыблемость полудня, первого номера его программы:
— А Хильдегард ушла уже… Выблядок.
— Что такое?
Она уже совсем вошла в комнату, держась в почтительном отдалении, но опираясь вследствие подагры на выступ комода.
— Она ведь сделала ее себе от другого — Хильдегард-то.
Как ни задето было его любопытство, он не мог ему потрафить.
— Послушайте, Церлина, я ведь всего-навсего квартирант здесь, и все это меня не касается. Я и слушать-то не хочу.
Она посмотрела на него, с сомнением качая головой.
— Вы ведь думаете об этом… О чем вы думаете?
Испытующий взгляд ее сердил и беспокоил его. Брюки, что ли, у него застегнуты не как следует? Было досадливое чувство, что его на чем-то поймали, и хотелось в открытую сказать, что думал он сейчас о деньгах. Но с какой стати он должен отчитываться перед служанкой? Он промолчал.