Немой
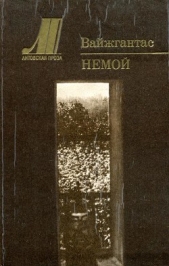
Немой читать книгу онлайн
В публикуемых повестях классика литовской литературы Вайжгантаса [Юозаса Тумаса] (1869—1933) перед читателем предстает литовская деревня времен крепостничества и в пореформенную эпоху. Творческое начало, трудолюбие, обостренное чувство вины и ответственности за свои поступки — то, что автор называет литовским национальным характером, — нашли в повестях яркое художественное воплощение. Писатель призывает человека к тому, чтобы достойно прожить свою жизнь, постоянно направлять ее в русло духовности. Своеобразный этнографический колорит, философское видение прошлого и осознание его непреходящего значения для потомков, четкие нравственные критерии — все это вызывает интерес к творчеству Вайжгантаса и в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жизнь в семье Гейше круто переменилась. Прекратились постоянные перебранки. Пожалуй, охота к этому у Довидене и не пропала, да тот призрак удерживал ее, не давал распоясаться. С тех пор в доме Гейше никто не произнес имени дяди-приживальщика, будто его никогда и не было.
Северия делала, что положено, потихоньку-полегоньку, и поступала так с явным умыслом. Ей было без малого 40 лет, здоровьем она обладала завидным, о чем можно было судить по ее ярко-красным щекам и прекрасной коже, упругой и ядреной. Поэтому ее нынешняя мешкотность вызывала лишь удивление.
Эта медлительность была единственным ответом Северии семейству и — ее местью. Потеряв мужа, она не видела смысла в том, чтобы надрываться за двоих. Да и за одну себя ей трудиться не хотелось, потому как Гейши ей ничегошеньки, гроша ломаного не платили. Она работала только за пропитание. Даже одежонка на ней, и та была из приданого, которое Раполене успела сносить.
Однако она привыкла растрачивать свою силушку в труде. Благодаря ему женщина отличалась цветущим здоровьем, им была жива. И хотя когда-то Довидене поедом ела Северию за мужа, та все равно не унывала и отправлялась спать, испытывая едва ли не удовлетворение от прожитого дня.
Теперь же Северия не уставала и все равно шла в постель обозленная, нередко забывая помолиться на ночь. Не в духе она и просыпалась. Ее характер портился прямо на глазах. Прошел год, прошел другой. И вот…
ЕЕ ЕДИНСТВЕННОЕ УТЕШЕНИЕ
Работящие и нерадивые, расторопные и копотливые, деревенские люди испокон веков делают всё ту же тяжкую работу — обрабатывают землю. Работают только мускулами, уставившись в ту же серую землицу, на тот же конский зад. А за это им воздается нежирной и незабеленной пищей, серой и неприглядной одежонкой. И хотя литовец — любитель поесть, однако в еде неразборчив, было бы что перехватить; и хотя он не прочь оживить свой наряд, обмотав пестрым шарфом шею или украсив лентой голову, — однако и без этого не скучает.
Зато по чему наверняка тоскует, так это по впечатлениям. Потрудится день, потрудится другой, глядишь, и места себе не находит; то ли леность, то ли скука его одолевают. Однообразие приедается ему точно так же, как человеку невмоготу просидеть долго, перенеся всю тяжесть тела на один бок или просто искривившись. Умиротворить литовца может только праздник, который является для него не только отдохновением от трудов праведных, но и многократно умноженной радостью. Оттого-то в праздничные дни огромные литовские костелы заполнены серой толпой.
Спешат-торопятся людишки отмахать полторы мили до костела. Плывмя-плывет развеселый, резвый да ходкий люд, и куда только деваются его нерасторопность и леность, отличающие его в хлопотах по дому или на полевых работах. Плывут ни свет ни заря, загодя, чтобы успеть к ранней службе или даже к обеим заутреням.
Одни, придя ко времени, вдохновенно творят молитву богородице; другие, собравшись группками, стоят-постаивают на площади без цели, зато по делу; третьи горланят, снуют по харчевням, пока, стосковавшись по дальней родне, не дождутся новых знакомых и родичей. Сколько тогда радости, разговоров поцелуев!
— А, здравствуй, здравствуй!
— Что поделываешь?
— Как тетушка, здорова?
Все уголки и каморки гудят слаженным хором.
И воцаряется такая уютная атмосфера, какой никогда не встретишь даже в семье, где все живут душа в душу. Сердце так и тает, хоть раскрывай объятия любому, крепко обними, приласкай и расцелуй его или даже затей с ним в шутку борьбу. Это — поистине братство высочайшей степени, ибо рождено оно чистосердечным порывом, лишенным каких-либо сторонних соображений. Любая из девушек охотно дала бы поносить подружке свой самый нарядный новенький платок, всякий парень поставил бы приятелю полкварты.
Безмятежность и согласие витают чудесным праздничным утром в литовских местечках, где имеется храм господен.
Дядя Миколас во всей этой суматохе не участвует. У него нет близких, с кем бы он мог поделиться своими радостями и горестями. Он, почитай, уже выбыл из строя. Правда, ему и сейчас кажется, что мужчины таким же манером подстригают усы, так же ведут себя и даже стоят или сидят так же, а женщины так же простираются ниц или молятся на коленях, как и в его времена, несколько десятков лет тому назад; значит, не исключено, что и дяди остались теми же. Но нет, можно без труда прикинуть — это уже третье поколение тех, кто превратился в дядей, а вот национальные особенности остались прежние.
И все же это не мешает дяде Миколасу вдыхать тот же приятный воздух, и ему тоже хорошо, ах, как хорошо! Хорошо с самого первого шага, когда он отправляется из дому в гости к всевышнему, когда любуется по дороге живописными окрестностями, хорошо, когда входит в местечко. Но лучше всего ему бывает в просторном деревянном костеле с хорами, где столько картин и рисунков.
Люди собираются быстро. Входят и входят во все четверо дверей костела, напоминая потоки. Встают на колени, отвешивают низкие поклоны в сторону алтаря, трона божьего, жмутся в кучу, напоминая живые грозди или пчел в улье. И кажется, как не взять у пчелы воска, так не вытянуть из толпы литовцев ни бесконечных молитв, ни серебристо-звонких песнопений, если не дать ей возможности уподобиться шатающейся стене и, распарившись, обливаться потом.
Вот и потеет толпа, вот и поет. Это бывает обычно не торжественная песнь, не притворное славословие, а лишь воспевание самих себя, своих равнин и пологих безмятежных пригорков, живописной, спокойной гармонии литовской природы. Опустимся на колени. Да благословен будет святый-святый-святый. Боже, отче наш и соответствующие сему дню святые — все это такое свое, литовское, так своеобразно отражает душевный порыв.
Шумит-гудит храм божий. Звонят колокола на звоннице, мелодично тиленькают время от времени бубенцы сигнорели, вскликивает человеческим голосом и то поет, то рыдает орган, что-то мистически-непонятное тянет ксендз, сияют свечи и знаки священного братства…
Дядя Миколас растворяется в этом стройном гуле, как в благодатной нирване. Он не чувствует себя обособленно. Он лишь частичка, лишь капля, из коих получается множество, которому под стать выразить грандиозное величие творца. Для него и сам божий храм как бы часть общей земли. По правую руку — черная, будто только что вспаханная им самим под пар полоса; это головы простоволосых мужчин. По левую — белый участок, напоминающий луг, на котором только что расцвели ромашки; это покрытые белыми платками женские головы. А посредине — пустая межа, на которую не ступают ни те ни другие. Да и странно было бы видеть на свежевспаханном пару белую ромашку.
Черное, серое, белое. Как удивительно единство природы с населяющими ее существами. Поле и луг тоже подгоняют хлебороба под свой облик, как гусеницу — листок или ветка, которыми она питается и где отдыхает; как бабочку — кора дерева, на которой она прячется от врагов. Гусеницу не отличишь от сломанной ветки, бабочку — от вспучившейся древесной коры; серого пахаря — от серой землицы, точно так же, как девушек, собирающих маковый цвет — от ярких луговых цветов. Все они тем же творцом созданы. Честь и хвала единству природы и всего живущего!
Для тетки же Северии все происходит по-иному.
Она — давно уже тетка, однако до сих пор не хочет примкнуть к рою деревенских тетушек, вдовиц и вековух, для которых костел — альфа и омега всей жизни, ее начало и конец. Дескать, храм для меня и батюшка, и матушка, он моя любовь и все мое утешение.
После смерти мужа даже костел не приносил тетке ублаготворения. Правда, если бы ее в праздник оставили дома, она почувствовала бы себя в роли пассажира, высаженного не на той станции, да никому и в голову не пришло бы поступить таким образом; вместе с остальными она спешит, торопится ни свет ни заря в божий дом, и ей там так хорошо, как нигде больше. Но несмотря на это, она не погружается в нирвану набожности, а отчего-то озирается по сторонам, точно ждет кого-то, и ловит чужие взгляды. Ах, нехорошо это, недостойно и, конечно же, не место для этого в костеле! Но, к сожалению, она вела себя именно так. Северия не молится, как бывало, спокойно, сосредоточенно, целиком уйдя в благодарения и челобития. Ей словно чего-то не хватает, а внутри — холод и пустота. Не успев прийти сюда, она ждет окончания службы.


























