Немой
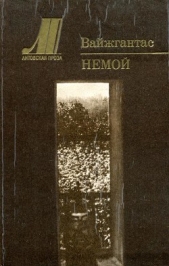
Немой читать книгу онлайн
В публикуемых повестях классика литовской литературы Вайжгантаса [Юозаса Тумаса] (1869—1933) перед читателем предстает литовская деревня времен крепостничества и в пореформенную эпоху. Творческое начало, трудолюбие, обостренное чувство вины и ответственности за свои поступки — то, что автор называет литовским национальным характером, — нашли в повестях яркое художественное воплощение. Писатель призывает человека к тому, чтобы достойно прожить свою жизнь, постоянно направлять ее в русло духовности. Своеобразный этнографический колорит, философское видение прошлого и осознание его непреходящего значения для потомков, четкие нравственные критерии — все это вызывает интерес к творчеству Вайжгантаса и в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Немой


ДЯДЬЯ И ТЕТКИ
Благо, если бы еще это были папенькины или матушкины братья и их жены. Понаписать о них можно было бы уйму самых замечательных вещей. Когда у тебя куча дядьев — естественно, с супругами-тетками, то и уважения к тебе больше, и самому куда как приятно. Почет на всю деревню, когда к тебе по дороге с храмового праздника сворачивает телега за телегой, когда в твоем дворе тесным-тесно от колымажек и бричек, отменно окованных, а то и рессорных, когда за твой стол, застланный белоснежной скатертью, разом усаживаются человек десять-двенадцать, и все они — твои близкие. О, по такому случаю тебе не жаль двух мер ячменя и хмелевой шишки, не жаль и барашка. Тебе в радость гомон в избе и вместе с тем хорошо от мысли, что и ты, куда ни повернись, всюду по пути то на одного, то на другого дядю наткнешься, запросто к нему заедешь, запросто потолкуешь, рассчитывая на ночлег и угощение, ибо он у тебя в долгу, обязан отплатить добром за добро.
И самим дядьям приятно похвастать своими племянниками. Одно слово родня!
Благо, если бы это было именно так!
Мне же суждено ввести в эпопею литовского народа дядьев и теток совсем иного рода. Грустная это будет история; прихлебывая питье из «хмелевой шишки да ячменишка», ее не поведаешь. Придется мне повести рассказ об отцовом брате-холостяке да об отцовой невестке-вдовице. Думается, таких типов сейчас нет в Литве, где сложились уже иные экономические и социальные условия, ибо в былые времена дядьями и тетками называли людей вовсе не по родственному или семейному признаку — они представляли собой социальную единицу в семье.
В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА: МИКОЛЮКАС И СЕВЕРЮТЕ
Случилось это задолго до отмены крепостного права.
Имение Савейкяй было не самым крупным среди всех поместий Патс-Памарняцкаса. И все же на полевые работы сгоняли народ из нескольких окрестных деревень: Аужбикай, Гейшяй, Тилинджяй и прочих. Надзирал за ними Раполас Гейше из деревни Гейшяй, распорядитель имения, или по-простонародному «надсмотрщик». В подручных у него ходил Миколас Шюкшта из деревни Аужбикай, который был вдвое моложе его. Распорядитель Раполас, взяв в руку внушительную плетку, с суровым и хмурым видом ходил по имению вокруг хозяйственных построек и в поле вокруг работников. Он отдавал распоряжения, ругался, пощелкивал плеткой и беспрерывно дымил трубкой. Куда бы он ни повернулся, только и слышно:
— Миколюк [1], сюда, Миколюк, туда.
Надо сено сгребать:
— Миколюк, выводи девок!
Надо сено свозить:
— Миколюк, возы навивай!
Надо сено уминать:
— Миколюк, тащи на сеновал!
И вот так целый день, круглый год, много лет подряд.
А Миколюкас со временем Миколасом стал. Вот-вот тридцать стукнет. Он ладно скроен, крепко сшит, широк в плечах, росту выше среднего и силы недюжинной. Охапки сена, мешки с зерном играючи перебрасывает, а коли телега застрянет, он ее хвать за задок — и вытащит. Усы щеточкой под самым носом, потому что он брил их над губой, чтоб не макать за едой в ложку.
Миколюкас бросается, бежит, куда пошлют, без тени неудовольствия на лице, без малейшего укора, без отговорок, не сетуя никому, даже своим домашним. Трудился он втихомолку, говорил лишь по необходимости. Однако же не был ни угрюмцем, ни докучником. Любого подкупали его синие глаза — такие спокойные и ласковые, что из-за них только его звали не иначе, как уменьшительным именем: Миколюкас.
Молчалив был Миколюкас, это верно, и все же людям казалось, что он разговаривает. Во всяком случае порывается что-то сказать. Губы его полураскрыты, будто он вот-вот скажет что-нибудь хорошее, что надумал или припомнил. Миколюкас радовался неизвестно чему, неизвестно кому улыбался.
— Миколюк, живо, мигом!
Миколюкас мчится, как ошпаренный, навивает, уминает, треплет, трудится в поте лица — мало ли в поместьях Патс-Памарняцкаса работы для крепостных! Потеет он и впрямь за двоих, а то и за троих, никогда не требуя подмоги. Даже когда вокруг тьма народу, Миколюкас трудится в одиночку, сам свой гон проходит. Все видели это, и оттого ни у кого не возникало желания подсобить ему. К чему, если ему и без того хорошо! Миколюкас не сторонился людей, но и не тянулся к ним. С его приходом компания не увеличивалась, а когда уходил, о нем сразу же забывали.
Управившись с дневными заботами, он в одиночестве шагал домой, к себе в деревню, немного отстав от остальных. Может быть, в деревне его невзлюбили? Какое там! Для всей деревни, как, впрочем, и для имения, он был своим парнем, Миколюкасом. И никто не мог сказать, что Миколюкас хотя бы раз не согласился с кем-нибудь, поперечил кому-то или обозвал кого.
Но как бы там ни было, а домой он шагает один. Идет и улыбается, и не поймешь, чему он сегодня так радуется, что ему именно сегодня пришлось по душе, кто его приголубил, похвалил или угостил жестким домашним сыром. Нет, никто его ни разу не приветил: ни сегодня, ни за всю его жизнь; никто не заметил его трудолюбия и сноровки или во всяком случае не подал виду, что заметил, и уж тем паче никто не отблагодарил его добрым словом. Никто-никто, даже ближайшие соседи ни разу не завели с ним разговор в таком духе:
— Ай да Миколюкас!..
А ведь и этого мало, почитай, всего ничего. Сказать такое — для литовца значит ничего не сказать, ничего не спросить, оттого он и не ждет в ответ никаких излияний. Но, согласитесь, это приятно. Заговорят с тобой вот так, доверительно и участливо, и ты поймешь, что наконец и тебя заметили. А значит, ты не один на свете, и хоть на миг был кому-то нужен.
Оттого-то и улыбается Миколюкас вовсе не белому свету. Он уже успел позабыть, что с ним сегодня было, что он делал, что, куда и откуда возил, кто ему подсоблял, кто журил или отдавал приказания, не помнил, как несколько раз на него прикрикнул распорядитель: «Эй, Миколюк, живей!» Из памяти его изгладилось все, что произошло, и, судя по всему, ему не было дела до того, что ждет его дома и чем он займется, если не пошлют в имение.
Миколюкас улыбается другому миру, с которым он поддерживает отношения невидимым для посторонних глаз способом, и поэтому нельзя угадать, с кем он заодно и в ком находит ответный отклик. Одно ясно: в том мире не могло быть людей, потому как в людях Миколюкас не нуждался. Ну, а то, что он был нужен людям, — это совсем другое дело, это уж их забота, раз они живут в другом мире.
Миколюкас никуда не ходил, ни во что не вмешивался, ни о чем не беспокоился. Родители его давным-давно умерли. Хозяйство и прочие заботы легли на плечи старшего брата, который давным-давно успел жениться и обзавестись кучей ребятишек. Ни в имении Савейкяй, ни во всем старостве, ни дома, ни в деревне Аужбикай никто не называл его Миколасом — только Миколюкасом, никто не держал за серьезного работника, хотя он когда-то, будучи подпаском, уже работал не хуже батрака — и ничего, справлялся. Ни распорядителю Гейше, ни брату он не казался пригодным для серьезной, тяжелой работы, оттого и посылали его туда, где он… делал вдвое, втрое больше, чем требовалось. Никто его не бил, никто силой не понуждал, и все равно как в имении, так и дома только и слышалось:
— Миколюк, сюда, Миколюк, туда!
Когда же распорядитель не гнал его в имение, брат выпроваживал на свое поле, луг или гумно. Стоило ему ступить на порог, как невестка совала ему в руки ребенка или приставляла к колыбели качать крикуна. Миколюкас и за эту «работу» брался со своей неизменно доброй и ласковой улыбкой, которая не сходила с его лица и когда он нагружал возы. Мало того, он брал дитя на руки плавными, женскими движениями, ласково приговаривал и прижимал его к себе огромными, как веялки, ручищами. Он любил братниных детишек, играл с ними, приносил им с поля пичужек, зайчишек, а из местечка бубликов.


























