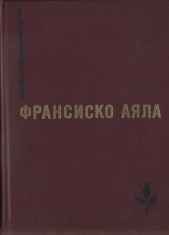Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из всех основанных на вере в загробный мир религий наиболее логичный и гуманный путь к достижению вечного блаженства — а тем самым и к обретению счастливой старости — предлагает религия альбигойцев. Их вера зиждется на непреложной убежденности в победе души, но сама эта победа достигается лишь после деликатного — сродни увещеванию — смирения плоти. Кто принимает обет катаров — обет совершенства, — тому надлежит отринуть все земные соблазны и искушения и жить, уподобясь Христу. Однако к сей святости следует направить ум и сердце чуть ли не перед самой смертью. После того как, обдумав и взвесив все должным образом, человек добровольно отказывался от мирской суеты, единоверцы окружали его почетом, близким к молитвенному поклонению. Итак, вступить в жизнь вольным трубадуром, провести ее эпикурейцем и завершить святым — немало людей прошли этот цикл, переняв воззрения тулузцев на бытие и человека.
Может статься, я впадаю в повторы. Не помечая датой, веду я эти свои почти дневниковые записи. И даже не в отдельной тетради. На первом попавшемся под руку клочке бумаги, на помятом конверте от завалявшегося в кармане письма. Мои наброски копит старая канцелярская папка, где вольно им по-новому тасоваться всякий раз, как я их перебираю.
Правда, порой мелькала у меня мысль: а не облечь ли свои заметки о столь жгучей проблеме времени в четко скомпонованное произведение? Я уже представлял себе разделы и главы книги, достойно обобщающие столь значительную тему. Только все времени для этого нет. И не потому, что я не мог бы выкроить дни. Нет его потому, что для стратегических планов, для приведения в порядок моих боевых сил требуется покой. А именно покоя мой неприятель и не дает мне! Он наступает ежеминутно. Что ни мгновение, то теснит меня на другие позиции, вынуждает отходить на новые оборонительные рубежи. Да и оборону мою можно сравнить с отчаянным сопротивлением арьергарда в захваченном неприятелем городе. Стало быть, каждая из этих отрывочных заметок — как одиночный выстрел из окна или из-за печной трубы. Но после каждого шага вынужденного отступления лишь настойчивее и упорнее моя оборона; я бы даже сказал, вдохновеннее. Потому что она успешна.
Чтобы пресечь или побороть глупые выходки старости, существуют два пути, не сегодня открытые. Первый — это ранняя смерть; непрошеное, но и неотвратимое решение, навязанное самой природой. Другой путь — смириться, терпеливо нести бремя свое, не бояться заглянуть смерти в лицо — и еще уйма куда более обтекаемых формулировок, которые предлагают нам философы.
Рассмотрим — в их очередности — сначала первый, а затем и второй путь, если, конечно, первый не даст ответа, удовлетворительного для человека нашего времени.
Но в обоих случаях прежде всего необходимо само понятие старения перевести на язык критериев разума.
Процедура все более хлопотная с течением лет. Не только лет нашей жизни, но и с точки зрения эволюции исторических эпох. В глазах современного шестидесятилетнего человека восьмидесятилетний стар. В рыцарские же времена тридцать и тридцать пять лет — появление первого седого волоса на голове иль в бороде — как бы знаменовали собой пограничную веху следующей, более суровой зоны существования.
По сравнению с другими жизнеощущениями человека, которыми он наделен с незапамятных времен, чувство старости — понятие современное. А потому и само определение старости проблематично и не окончательно.
Быть может, старость адекватна спаду жизненных сил? Но сколько молодых людей и даже младенцев оказывается нежизнестойкими! В таком случае можно степень старения определять близостью человека к смерти. Ну, а если представить полк новобранцев за миг до рукопашной схватки? Итак, остается принять за единицу измерения старости отрезок жизни до естественной смерти человека, то есть до кончины от старческой дряхлости.
Все так, но ведь и смерть тоже понятие современное. Больше того, оно до сих пор не укладывается у нас в голове. Собственная смерть для каждого из нас невообразима; и эта наша неспособность вообразить ее, судя по всему, и является предпосылкой того, что мы доводим до конца другую цепь несообразностей — ту, что называем жизнью.
Что нам остается противопоставить, что возразить на все это? Покуда грубые выходки смерти похожи на озорство разнузданных подростков или подгулявшей солдатни, ответ подсказывает нам жизненный опыт: махнем рукой, встанем, отряхнем одежду и, не теряя самообладания, продолжим путь. Коль скоро мы верим в действенность воспитания, удовлетворим заложенный в каждом из нас менторский инстинкт и пошлем несколько назидательных сентенций в адрес виновницы нашего конфуза или ее равнодушных свидетелей.
Если заигрывания грубы, ответ наш — спокойное презрение. И чем они грубее, тем неколебимее наше презрение. Если же каверза переходит в подлость, все равно нет иного ответа, кроме презрения. А если в той игре нам переломали кости и недостает уж сил тащиться дальше, припадем лицом к земле, накроем голову полой одежды и, если не сможем молчать, дадим себе право на стенания, подобно Монтеню. Если отнимут у нас и последний лоскут одежды, то, прижавшись к земле, ладонями прикроем голову. Если же удары в лицо вынудят нас подняться, если нас лишат даже права на стенания, по Монтеню, тогда всю силу презрения выразит наш взгляд. А если будет наложен запрет даже на презрение во взгляде и в складках рта, спрячем презрение в сердце, надежно укроем его упорством: нет, я не сдамся, не таков был уговор; это не справедливо; неправда, что нет избавления.
Гостиница была старая — по меньшей мере столетняя, — но чистая и надраенная, как океанский пароход. Она захватила в длину довольно большой участок между озером и склоном холма, поросшего дубравой. Состояла гостиница из нескольких зданий, соединенных между собою крытыми галереями и крытыми же мостками. Нет, не одинокий корабль здесь плыл через лета, но целый караван судов. Внутри все сверкало: медные ручки и задвижки до блеска начищены мелом, на створках дверей блики свежей масляной краски, в коврах — ни пылинки, окна не захватаны грязной рукой.
Девственная чистота ветхих зданий — это кажущееся противоречие — благотворно действует на человека. Освежающий запах, распространяемый старинными вещами, приятно поражает не только обоняние, но и разум. Впрочем, в этой гостинице заезжего подкарауливали и другие, не менее приятные и бодрящие мысль сюрпризы.
Кому из нас не доводилось переступать порог комнаты, где обосновалась чета одиноких стариков; комнаты, где пол под ногами у нас деликатно прогибается, понуждая к легкому, столь же деликатному поклону кресло, к которому нас подвели хозяева дома и предлагают сесть.
Судя по узорам, паркет в гостинице, возможно, был выстлан еще во времена австрийской монархии. А в таком случае не удивительно, что настил под паркетом, тесанный, очевидно, из сосны, давно изъеден древоточцем и поврежден. И тем не менее нас поражало, когда этот паркет из дерева твердых пород прогибался под ногами, как неокрепший ледок под ногой конькобежца. Отчего же податливость паркета так удивляла нас и вызывала скорее улыбку, нежели хмурые складки на лбу? Потому что на паркете невозможно было заметить ни пятнышка грязи; сухое и окостеневшее за годы дерево много раз циклевали, щедро покрывали воском, ежедневно наводили глянец и, судя по всему, перед самым нашим въездом снова тщательно натерли. Стоило сделать шаг, и тотчас же навстречу вам учтиво кланялось кресло. Изящный шкаф из дальнего угла и зеркало напротив него учтиво приветствовали нас. К тому же поклоны эти отвешивались как бы сами по себе, независимо от движений человека, поскольку сложная сетчатка паркета резонирует совсем иначе, нежели прямой дощатый пол. Наша улыбка, все более широкая, была на это ответом. Мы простили старине его слабости, обезоруженные его опрятностью.
Лишь повзросление подростка так же глубоко меняет суть человека, как наступление старости. Чтобы этот процесс созревания действительно обрел гармонию, чтобы не стал он мешаниной полуотвердевших черт, для этого вряд ли нужно что другое, кроме содержания в чистоте внешнего, равно как и внутреннего нашего облика: если потребуется, ежедневно скоблить себя щеткой, начищать порошком, наводить восковой глянец. Как туманное детство есть преддверие отрочества, так примерно в последние годы зрелого возраста смутно предугадывается старость человека. Этой поре жизни свойственна своя прыщеватость, взбалмошность, настороженный интерес к миру, открываемому женщиной, алкоголем и томиками стихов; здесь неизбежны ночные пробуждения от будоражащих мыслей: уповать ли на будущее, надеяться ли на бога, какова цена человеческого достоинства?