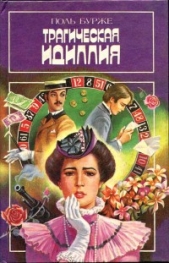Ученик

Ученик читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каким бы странным ни показалось подобное сопоставление, но ему нравились Имогена и Дездемона, Корде лия и Розалинда, как наряду с романами Диккенса и Топфера нравилась ребяческая болтовня Флориана и Беркена. Но такие контрасты лишь доказывают шаткость художественных суждений, основанных исключительно на чувстве. Все эти книги, точно так же как и романы Вальтера Скотта и идиллии Жоржа Санда, я читал в иллюстрированных изданиях. Само собою разумеется, что было бы лучше не пичкать воображение такой разнообразной, а порой и опасной пищей, хотя в силу своего возраста я понимал лишь незначительную часть из прочитанного. Отец не обращал на мое чтение никакого внимания. Впрочем, даже если бы молния поразила наш дом, то едва ли отец заметил бы это, когда, унесенный на могучих крыльях абстракции, он выводил на черной доске свои формулы. Но мать, которой этот демон был так же чужд, как и зверь из апокалипсиса, едва только первое потрясение нашего горя прошло, не замедлила порыться в комнате, где я готовил уроки. Под начатым сочинением она обнаружила раскрытую книгу. Это был роман Вальтера Скотта «Айвенго».
— Это что за книга? — спросила она. — Кто позволил тебе взять ее? — Но я уже прочел ее один раз, — ответил я.
— А эти? — продолжала она перебирать томики моей библиотеки, где рядом с учебниками стояли драмы Шекспира, «Женевские рассказы», «Николас Никльби», «Роб Рой», «Чертово болото». — Это не для твоего возраста, — твердо заявила мать. — Потрудись отнести эти книги в гостиную. Я их запру в шкаф.
Отлично помню, как я переносил книги, по три зараз; некоторые из них были очень тяжелы для моих детских рук; я переносил их в холодную комнату с мебелью в чехлах и с балконом, выходившим/ на улицу, — в ту самую комнату, где я услышал, как мать сурово осуждала мою бесчувственность. Белыми пальцами, высовывавшимися из черных митенок, мать брала у меня том за томом и ставила рядом с математическими трактатами. Затем она заперла стеклянную дверцу, а ключ присоединила к тем, что висели на кольце, с которым она никогда не расставалась. Потом она строго прибавила: — Когда тебе захочется прочитать какую-нибудь книжку, обратись ко мне…
Просить у нее книги! Какие? Я великолепно знал, что она не даст мне те, перечитать которые мне захочется и на корешки которых, видневшиеся за стеклом, я смотрел с грустью. Уже тогда я сознавал, что мыс матерью ни по одному вопросу не мыслим одинаково. Я был очень сердит на нее за то, что она лишила меня самого большого удовольствия — удовольствия читать, и, может быть, даже не столько за самое запрещение, сколько за те объяснения, которые она мне давала по этому поводу, ибо она почла нужным несколько раз повторить слова о вреде романов, заимствованные из какого-то благочестивого сочинения и выражавшие нечто совершенно противоположное тому, что я сам думал на этот счет. Мать воспользовалась предлогом, что неумеренное чтение может мне повредить, и стала внимательно следить за моими занятиями. В этом состоял ее долг. Но как велика была разница между идеями, к которым приобщал меня с малых лет отец, и жалкой скудостью ее заурядных, мелочных и мещанских представлений! Теперь на прогулки я уже ходил с матерью; и, гуляя, она разговаривала со мной. — Но все ее разговоры сводились к замечаниям о том, как надо себя вести, к рассуждениям о хороших или дурных манерах или касались моих школьных товарищей и их родителей. — Мой ум, приученный к наслаждению мыслить, чувствовал себя теперь как бы придавленным. Застывшие пейзажи с потухшими вулканами напоминали мне о тех днях, когда отец рисовал мне грандиозные катаклизмы земли. Цветы, которые я срывал, мать брала на несколько минут в руки, потом бросала, почти не взглянув на них. Она не знала их названий, как не знала и названий насекомых, которых она тут же приказывала мне выбрасывать, так как считала их грязными и ядовитыми. Тропинки, вившиеся среди виноградников, уже не вели больше к открытию огромного мира, куда звала меня вдохновляющие слова отца. Они сделались просто продолжением городских улиц и убожества повседневных делишек.
Я подыскиваю слова, чтобы точнее передать смутное и странное ощущение скуки, умственного гнета и затхлой атмосферы, с которыми связаны для меня эти прогулки, и не нахожу ничего подходящего. Ведь язык создан взрослыми, чтобы выражать мысли и чувства взрослых и в нем не хватает выражений, соответствующих робким восприятиям ребенка и полумраку его души. Как передать еще не осознанные страдания, которые можно обнаружить только тогда, когда они уже в прошлом? Например, те страдания, какие испытал я, в чьей голове уже бродили высокие мысли; мой ум, уже находившийся на грани обширного духовного горизонта, вдруг подвергся тирании другого ума, ограниченного, слабого, чуждого всяким общим идеям, всякому широкому в глубокому взгляду на вещи. Теперь, когда пора моего загнанного в подполье и всячески подавляемого. детства отошла в прошлое, я объясняю все малейшие его эпизоды законом интеллектуальных конституций; и сейчас я вполне отдаю себе отчет в том, что, доверив воспитание такого ребенка, каким я был, женщине, как моя мать, судьба пыталась соединить две столь же несоединимых формы мысли, как несоединимы два разных рода в животном царстве. Теперь мне приходят на ум тысячи всяких подробностей, в которых я нахожу доказательство врожденного различия наших натур. Я уже достаточно рассказал вам об этом, чтобы теперь можно было ограничиться простым указанием на конечный результат молчаливого столкновения между нашими душами; если выражаться философским языком, благодаря этому противоречию в моем воспитании во мне оказались заложенными два различных начала; одно в области чувств, другое — в области умственных способностей.
Чувство сосредоточилось на сознании одиночества моего «я», а умственные способности оказались направленными на внутренний анализ.
Я уже сказал, что у меня тотчас же создалось впечатление, что как в области чувства, так и в области мысли я не могу целиком открыться своей матери. Я едва вступил в интеллектуальную жизнь, а мне уже стало понятно, что существуют такие элементы нашей душевной сущности, которые недоступны другому человеку. Отсюда появилась у меня робость, которая затем перешла в гордыню. Но разве всякая гордость не имеет аналогичное происхождение? Не осмеливаться раскрыть себя, значит себя изолировать, а изолировать себя от других значит быстро перейти к тому, чтобы считать себя выше, чем они. Впоследствии я нашел у некоторых современных философов, например у Ренана, это же самое чувство одиночества, но уже видоизмененное в торжествующее и трансцендентальное высокомерие.